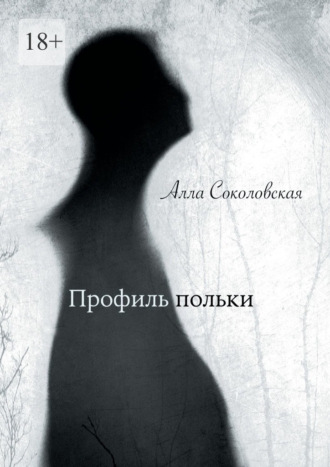
Полная версия
Профиль польки
«И не всё ли равно, кто тебя соблазняет…»
И не всё ли равно, кто тебя соблазняетбольшими надеждами, верой, любовью,кто тихо прильнёт к твоему изголовью,кто имя твоё, словно сон, забывает.Кто будет не нужен, кто нужен до гроба,кто утром уйдёт, кто останется рядом,тебя прибивая суровостью взгляда,а, может, напротив, вы будете обатак счастливы долго и так откровенно,что кто-то в отчаяньи вам не поверит,на что усмехнётся невинный Сальери,продолжив молиться и нощно и денно.Соблазн воплощённый иль невоплощённыйна старом пергаменте только виньетка,и грустную песнь запоёт шансоньеткао книге, где пара страниц непрочтённыхосталась всего-то – вдох-выдох и вышел,недолгие сборы, пустая котомка,все наши грехи остаются потомкам,быть может, таким же, как мы, нуворишам.«Белый город – первый признак юга…»
Белый город – первый признак юга,и свежайших устриц острый запах,хорошо туда уехать с другом,чтобы к нам на жёлтых мягких лапахподбирался вечер на закате,отстранясь от криков жадных чаек,мимо мчит пацан на самокате,разгоняя этих попрошаек.И шныряют местные гулякив поисках доверчивых красоток,греют пыть ленивые собаки,чайки продолжают в сотню глотокпрошивать насквозь волну и пену,мы бредём и босы и беспечны.Только море не подвластно тлену,только камни знают всё про вечность.Ну, а мы живём одной минутой,Юг – это всегда про ненадолго,он легко берёт в любой валютеплату за любовь иль чувство долга,что с одеждой сброшено на пляжена неделю или чуть подольше.У воды весь мир одноэтажен,югу вновь проигрывает Польша.Где меня бы окликали: – Пани, —одарив чрезмерностью шипящих,но и там ни Гуччи, ни Армани,майка, джинсы, радости бродящихпо чужим местам, что быть могли быглавными по праву первородства.Не случилось. Домик на отшибевозвращает в южное сиротство.Ещё пару дней и отбываем,Юг – это всегда про ненадолго.Каждый со своим воспоминаньем,бережно положенным на полку,станет дальше жить привычным бытомв этом снова вывихнутом мире,где совсем не сложно быть убитымза идеи дикого кумира.Записки неопределённого жанра
Коротко о всяком
* * *На безукоризненно подстриженном газоне даже репейник смотрится как цветок.
* * *Талант отражает настоящее и прошлое, гений – будущее, и только посредственность ничего не понимает в настоящем, всегда оправдывает прошлое и никогда не угадывает будущее.
* * *Чем отличается характер от натуры? Характер, это когда на коммунальной кухне ты можешь насыпать в кастрюлю соседа соль, а можешь не насыпать, а натура – это когда и соли жалко, но ты всё сыплешь и сыплешь.
* * *Надо быть очень бессердечным человеком, чтобы предложить женщине вернуть деньги, выплаченные ей по ошибке.
* * *В условиях советской жизни для большинства граждан самой неправдоподобной фразой могла быть эта: она долго осматривала квартиру, комнату за комнатой.
* * *
Говорят, в бане все равны. В смысле голого зада – наверное, но даже в бане есть те, кого намыливают, и те, кто намыливает, и если они не меняются местами, значит, абсолютного равенства тоже нет. А бывают ли вообще у людей моменты полного равенства? Да, пару минут перед рождением и пару минут перед смертью. Потом снова неравенство: одного, обмыв, завернут в парчу, другого в подол, одного положат в лакированный дубовый гроб, другого сбросят в яму. Жаль, что ни в том, ни в другом случае человек не может порадоваться абсолютному равенству, если ему это вообще надо, ведь равенство, как и свобода, нужны не всем.
* * *Мать ужасно боялась старости, до умопомешательства, однако умирать молодой ей, конечно, не хотелось. Сын, которого она постоянно мучила разговорами о старости, не знал, как её утешить. Однажды она спросила у него: чего бы ты хотел больше – запомнить меня молодой и весёлой или старой и выжившей из ума? Ответить: молодой и весёлой значило обидеть её пожеланием ранней смерти, старой и выжившей из ума – обидеть грубостью и в конечном итоге некоторым лукавством. И тогда сын спросил: а чего бы больше хотела ты, чтобы я дожил до твоей старости или не дожил? Больше разговоров на эту тему мать не поднимала никогда.
* * *Она жила в трёх странах и во всех трёх на обочине: жизнь проносилась мимо, а она медленно старела, продолжая мечтать о переменах, и даже соседка старуха, прожившая малоубедительную жизнь, не отвратила её от этих мечтаний. Подобного рода романтизм сродни глупости, но именно он помогает не впасть в отчаяние и продержаться до того возраста, после которого уже всё равно, какая у тебя была жизнь – интересная или скучная; все одинаково сидят внутри своей старости и немощи, в плену воспоминаний, но воспоминания не материальны, что свои, что чужие – всё это уже как бы не про нас, время смещает акценты и затуманивает события, оставляя одни недоумённые вопросы: неужели это было с нами? неужели это было со мной? неужели это вообще было?
* * *Абсолютное одиночество – это когда тактильный голод достигает такой силы, что однажды не выдержав, человек записывается на массаж не ради здоровья, а ради человеческого же прикосновения. И здесь может и не быть сексуальной подоплёки.
* * *После премьеры одного фильма о потусторонней жизни зрители выражали недовольство тем, что привидения были показаны недостоверно. Довлатов с его ангелом в натуральную величину, оказывается, совсем не одинок.
* * *Высшая точка советского цензурного идиотизма. У Рассадина прочла, что когда готовилась к печати книга Чуковского «Вавилонская башня», пересказ для детей библейских легенд, цензоры потребовали убрать всего два слова: «Бог» и «евреи». Риторический вопрос к опальному Богу – Господи, ты после этого смеялся или плакал?
* * *
Никогда ещё человеческая глупость не была так заметна, как после изобретения интернета. Впервые человек получил возможность прокричать свое маленькое – я есмь – на такую большую аудиторию. Отчего впал в состояние непрерывной эйфории. Захочу, напишу хамоватое «фи» кому угодно и о ком угодно. Но в большинстве своем просто никчемное – что ел на завтрак, на каком пляже грел свои чресла, как кого-то бросил ты, как бросили тебя. Кого это интересовало раньше, кроме десятка родных и знакомых? А тут сонмы. И поклонников, и насмешников. И равнодушных, но прочитавших. Публичный эксгебиционизм как форма современного существования социума.
* * *Перефразируя Цветаевское: «Почему Штейнер, если он ясновидящий, не видит, как скучны его произведения?», спрашиваю – почему те, кто издает дневники, набитые мелкой повседневностью известных людей, так безжалостны к этим людям? И дело не в том, что, мол, не надо делать из них идолов, они такие же, как мы, со своими дрязгами и больными зубами, а в том, что это ещё не повод для публикации. Только клинический нарцисс может быть доволен тем, что все прочтут даже о его запорах. Хотя, одного такого знает каждый – это Сальвадор Дали. Кажется, он упивался описанием подробностей своей физиологии. Интересно, скольких, прочитавших об этом, он оттолкнул? Впрочем, может быть, того и добивался?
* * *Так странно: от детства, работы, дружбы, любви человек хочет только хороших воспоминаний ДЛЯ себя, но его совершенно не заботит, какие воспоминания он оставляет ПО себе у других. Эгоцентризм предлога.
* * *Старость особенно бесцеремонна с теми, кто на неё соглашается. Справедливости ради не соглашаются единицы.
* * *Из М. Гаспарова «История мировой культуры»:
«У одного священника спросили, с какими грехами люди приходят на исповедь. Он ответил: один пришёл и кается – накричал на канарейку. Это или святой, или, наоборот, великий грешник, предпочитающий вспоминать пустяк, чем затаённое от себя же былое душегубство.»
* * *Ещё Гаспаров: на букву С – Свадьба. «После пышного дворца бракосочетания идём к нему домой, где в тесном застолье он читает нам Фому Аквинского – вопрос, ложный ответ, опровержение, истинный ответ…» Можно было бы впасть от этого в крайнее удивление, если бы не имя жениха – Сергей Аверинцев. Философ и на собственной свадьбе остаётся философом. Ну, не гопака же ему плясать. Гаспаров писал об Аверинцеве, что тот точно знал во всякий момент, говорит ли он как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. Удача, если в человеке мышление и чувства уравновешиваются, – думаю я, – ибо перекос в ту или иную сторону даёт самые неожиданные результаты.
* * *
Что такое истинная законопослушность автомобилиста? Не под страхом наказания, не потому, что за поворотом может стоять полиция, а внутренняя, давно ставшая неотъемлемой частью тебя? Это когда ты в 12 ночи, возвращаясь от друзей через лес, почти в полной темноте, останавливаешься у знака СТОП на выезде из этого леса. Зачем? Кто тебя увидит? Быть может, самое большое цивилизационное достижение человека по отношению к самому себе – это внутренний запрет, когда «нельзя» перевешивает «хочу» и «плевать».
* * *Любовь – это когда ты жалуешься, что после горячего душа утром ещё и горячий чай расслабляют ужасно, а на следующий день спускаешься к завтраку и обнаруживаешь чашку с уже налитым чаем. А ещё через день вы смертно ругаетесь, однако утром чашка чая стоит на обычном месте. Или это что-то другое?
* * *Лирики спорят: а всё же, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Физики на это пожимают плечами: о чём тут спорить? – технически стакан всегда полон: половина воды, половина воздуха. Можно только позавидовать этой ясности. А тут? Почему люди не летают, как птицы? И ведь гуманитария не технические же характеристики интересуют, а совсем даже наоборот.
* * *Позабавил вопрос Харджиеву, историку русского авангарда: «Какие были у Малевича взаимоотношения с Богом?» Так и хочется вмешаться в беседу: – Ну как какие? Близкие. Представила картину: Малевич, разливая водку, предлагает: Ну что, Бог, поговорим о беспредметности искусства? А Бог отвечает: Да, Казимирушка, вы на правильном пути, всё из хаоса вышло в хаос же и вернётся.
* * *Странное свойство нашей психики – пристально следить за чужим старением и не замечать собственного. Ой, как она постарела, – об известной актрисе. А я ведь помню её молодой, такая красавица была. Ну, если помнишь молодой, значит вы плюс-минус «одноклассники». И что, зеркала в доме нет, посмотреть на себя и ойкнуть так же? Да и жёлтая пресса мимо не пройдет, не сомневайтесь. Скажи нам кто-то о нашем собственном старении, мы обидемся, кто про себя, а кто и открыто, но поцокать языком в адрес медийных персон – святое. Оборотная сторона славы: даже состариться спокойно нельзя, а кому-то и умереть.
* * *У Цветаевой в записных книжках: «Дочь, у которой убили отца, – сирота; жена, у которой убили мужа, – вдова. А мать, у которой убили сына?» В самом деле, никогда не думала об этом. Дочери, жёны и прочие родственники – это потом, но сначала всё-таки мама-папа. Почему язык никак не отразил, не обозначил потерю у того, с кого, собственно, всё и начинается?
* * *Всякий настоящий поэт всегда Кассандра. Он каким-то чудом всё знает наперед, но его почти никто никогда не слышит, пока не случится катастрофа. То есть, в условиях человеческой глухоты дар Кассандры по сути совершенно бесполезная вещь. Что в нём проку? Разве что с запозданием ему удивиться, сидя на пепелище.
* * *Из множественных причин смерти, записанных священниками в дореволюционной России, особенно тронули: от естественного изнурения сил, по требованию времени, от природной обветшалости, от собачьей старости. Или вот: застрелился в меланхолическом состоянии. Какое лирическое всё же было время, как будто совсем не бытовое, хотя, конечно, это не так. Но язык необыкновенно облагораживал низкую действительность. Не констатация, а поэзия. И ещё, какое чудное утраченное слово – родинолюбие. Предмет такой в гимназии был, и учебник к нему.
* * *Из истории переводов. Перевели на французский «Войну и мир». Прислали автору экземпляр. Лев Николаевич открывает книгу наугад и натыкается на чудесное. – Ах вы, сени мои, сени… – переводчик перевёл как: – Ах, вестибюль мой, вестибюль… Граф хватается за голову и ругаясь последними словами швыряет книгу куда подальше. Может, и брехня, но смешная.
* * *Надпись на одной из кормушек в Чехии: «Будь добр к птицам, они единственные, кто будет петь у твоей могилы, когда тебя все забудут».
* * *Фраза «Прекрасные лагерные стихи» заставляет вздрогнуть от стилистической неуместности.
* * *Сталин был третьим ребёнком в семье. Двое первых умерли во младенчестве. Та же история с Гитлером, его старшие брат и сестра умерли, едва родившись, он был третьим. Для чего выжили эти третьи? Как это может быть совпадением? Вопросы к Богу? А к кому ещё, у людей об этом спрашивать бессмысленно. И если исходить из того, что Бог всё же есть, возникает следующий горький вопрос: при такой твоей снисходительности к выжившему злу ты человеку зачем?
* * *Как же была умна Майя Туровская. Одной фразой определить всю эстетику кино Киры Муратовой: Кино моего каприза. Точнее не скажешь.
* * *Шедевр – это не тогда, когда сложно, это когда просто, но неповторимо.
* * *Интересно, кому бывает тяжелее – воспитанному человеку впасть в грех сквернословия и грубости, или наоборот, хаму изображать воспитанного человека?
* * *Надежда Мандельштам одно время жила в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимала сама Мандельштам, вторую – квартуполномоченная по фамилии Нецветаева. Я не знаю, чьи это шутки, каких высших сил, но поражаюсь каждый раз этой иронии.
* * *Талантливый человек, наделённый усидчивостью и трудолюбием, как правило, терпеть не может быт, если приходится им заниматься, потому что он отнимает время от главного. Талантливый, но ленивый этот быт любит, потому что он оправдывает неделание главного. В результате от одного после жизни остаются его труды, от другого одни отрывки, обрывки, намерения и невоплощенные планы и идеи. Можно ли упрекать его за это? Не знаю. Пожалеть можно, но не его самого, а талант, который ошибся, постучав не в ту дверь.
* * *Почему, чем безысходнее и страшнее действительность, тем больше рождается стихов и тем больший отклик они находят у читателей? Не потому ли, что поэзия есть высшая форма языка, самый надёжный утешитель. Выше только небо и Бог.
* * *«Стивен Хокинг начинал как вполне заурядный молодой гений» – пишет кто-то в соц. сетях. Напоминает начало так и не случившихся мемуаров Раневской: «Я родилась в семье бедного нефтепромышленника». Заурядный гений – оксюморон высшей пробы.
* * *На одном форуме женщина цитирует Ахматову: «Как часто с мусора рождаются стихи». На всякий случай напоминаю первоисточник: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Но надо признать, суть таки передана без искажения.
* * *«Напротив Большого театра стоит памятник Марксу. Его голова, как засранная голубятня, олицетворяет относительность бессмертия». А. Ширвиндт. И попробуй с этим поспорить.
* * *В тоталитарном государстве одного человека не выпускают из страны, обрекая на рабскую жизнь, а другого выгоняют, делая его свободным. И в том, и в другом случае человек лишен выбора, но как различен результат.
* * *Наткнулась недавно в ФБ1 на одну фотографию, совсем никакую, совершенно, под ней стоит одинокий лайк, смотрю, лайк от знакомой. Не удержалась, спрашиваю: – Тебе в самом деле нравится картинка? – Нет, – говорит. – Тогда зачем ты поставила лайк? – Понимаешь, я подумала, автору же, наверное, очень обидно, что вообще никого, он, думаю, расстроился, вот и поставила, чтобы утешить.
Однако… поступок, достойный Сонечки Голлидэй, той самой, Цветаевской. Всё же блаженные люди украшают этот мир.
* * *Когда я слышу «Я антисталинист в прошлом», всегда думаю – и большая сволочь в настоящем. Исключений быть не может.
* * *
Молитва дореволюционного крестьянина: «Боже, взрасти, и для трудящего и для крадящего». Увы, но вряд ли она помогла в годы продразверстки, когда количество крадящих намного превышало количество трудящих.
* * *Казалось бы на вопрос – что такое культура? – ответ давно получен, всем всё разъяснили. Но с перемещением в социальные сети большинства человечества этот термин требует дополнительного осмысления. Культура – это способность сдержаться и не послать куда подальше любителей писать гадости в комментариях, не называть эти комментарии дурацкими (хотя явно видно, что писал дурак, но нынче дураки всех мастей не дураки, а носители другой точки зрения). Одним словом, культура – это когда ты не обижаешь даже тех, кого не знаешь, в глаза никогда не видел и не увидишь, но с кем неожиданно столкнулся на просторах всеобщих посиделок в сети.
* * *Никогда не понимала людей, мечтающих о славе, ещё меньше – к ней активно стремящихся. Публичность – прежде всего невозможность принадлежать самому себе. Это как быть блохой под микроскопом: каждый твой жест, взгляд, слово разбираются с маниакальной тщательностью. Тебе отказано быть больным, слабым, пьяным, глупым. Твой удел – бессмысленное обожание вначале или злая насмешка после. Это ежечасное перемывание твоих бедных костей и охота папарацци. Это невозможность похоронить ближнего своего без того, чтобы тебя пристально не разглядывали, оценивая глубину твоей скорби. Единственная слава, которая кажется мне хоть как-то допустимой, это широкая известность в узких кругах. Хотя там своя атмосфера и свой террариум единомышленников. А потому самый лучший вариант – это посмертная слава. И жизнь без лишних нервов прожита, и потомки знают. Вот как жизнь Эмили Дикинсон. Или Вивиан Майер. Но тщеславные натуры не согласятся на это никогда.
* * *Только наличие своих детей выявляет сущность человеческой натуры. Оскорбить или ударить чужого ребёнка постесняешься, своего – никогда. Поэтому судить о том, какой человек, надо по его отношению не к чужому ребёнку, а к своему.
* * *На самое краткое содержание шекспировского «Короля Лира» наткнулась в «Саге о Форсайтах». Про что пьеса? – спросил один из молодых Форсайтов, располагаясь в ложе. Второй ответил: про отца, дочерей и наследство. И вот пусть кто-то докажет, что это не точно и не исчерпывающе.
* * *Материться в присутствии детей считается некомильфо, вылетевший при ребёнке мат осуждается и пресекается тут же. Между тем, к подростковому возрасту большинство детей свободно и в немалом объёме владеет обсценной лексикой. Спрашивается, откуда они её знают при такой стеснительности взрослых? Яркий пример человеческой мимикрии: за закрытыми дверьми одно, в публичном пространстве другое.
* * *Когда-то прочла о двух удивительных фактах: 1) Качество роялей «Стейнвей» зависит от травы, где паслись овцы, из шерсти которых сделан фетр на ударяющих по струнам молоточках. 2) Самый дорогой рояль в мире – рояль Сваровски, изготовленный для шейха Катара. Рояль усыпан кристаллами ручной огранки и стоит более полумиллиона долларов. Трава и кристаллы как единица измерения: стремление к совершенству в первом случае и уникальной безвкусице – во втором.
* * *В искусстве наличие стиля, узнаваемость стиля – непременное (или очень желательное) для художника условие (успеха в том числе). Но это же и поводок, лишающий разнообразия. Художника – приёмов, зрителя – восприятия. Если смотреть подряд даже самые первоклассные картины или фотографии, выполненные в одной манере, то дистанция от восстоженного – ух, ты! до спокойного – хорошо… сокращается стремительно. Мозг очень быстро привыкает к единообразию. Как выйти за пределы собственного стиля, оставаясь оригинальным, неожиданным и при этом узнаваемым, – вот задача.
* * *«Прав в любви тот, кто больше виноват». Не могу постичь этой парадоксальной логики Цветаевой. Может быть, это о неосознанной правоте. Скажем, люди расстаются по причине бесперспективности отношений, и кто-то делает первый шаг к разрыву, в большинстве случаев причиняя боль, значит, он виноват. Но тем самым он освобождает обоих, и, значит, в конечном итоге прав. Однако виноватым останется навсегда.
* * *Произведения художника, его же изображения, он же в реальной жизни – это три разных человека. Исключения очень редки. И дело даже не в том, что талант может быть крупнее личности, или личность крупнее таланта, а лицо вообще как будто случайно подобранное. Беда в том, что человек не может отделить одно от другого. И потому часто разочаровывается в кумире. Ожидание и даже требование совершенства от художника – вот извечная ошибка обывателя. А, возможно, это не ошибка, а мечта. Кто-то же должен быть безупречен в этом ужасном мире. Поруганная мечта – что может разочаровать сильнее?
* * *Вроде бы банальное клише – во всём есть своя хорошая сторона. Что ж, сейчас поищу. Про плохие стороны не буду – они известны.
Одиночество. Хорошее: не с кем ругаться и выяснять отношения; можно ходить хоть голышом по дому – некого стесняться, дверь в ванную тоже можно не закрывать; не надо отчитываться, куда идёшь, зачем и когда вернёшься; промискуитет может быть кредо жизни и при этом не надо врать родне; не видишь, как меняется, и часто не в лучшую сторону, тот, с кем делишь всё; невозможность быть брошенным; редкий гость на похоронах. Но чем ближе старость, тем это хорошее всё больше скукоживается, доходя наконец до пресловутого стакана воды.
Нелюбовь. Хорошее: не сходишь с ума от страсти и ревности, не являешься собственником для кого-то и никто не собственник для тебя; спокойно спишь ночью, не боишься потерять то, чего не имеешь.
Смерть. Казалось бы, тут-то что может быть хорошего? Но: это может быть избавлением от постылой жизни или от измучившей болезни; преждевременная смерть – отсутствие старости и её последствий, за гробом идет ещё приличное количество людей; не успеваешь совершить много скверного и превратиться чёрте во что.
Война. Ограничусь только известной поговоркой: если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой.
Старость. Хорошее: и красавицы и не очень перестают переживать о внешности и лишних килограммах; на старость можно многое свалить; можно чудить и не встречать изумленные взгляды; легко притворяться бестолковым и беспамятным; позволять себе то, чего не позволяли целую жизнь; любить и забавляться с внуками, но не нести за них полную ответственность; плевать на чужое мнение, оно уже не имеет никакого значения; не бояться быть уволенным и, стало быть, не терпеть начальственную дурость; пить мало, спать сколько хочешь; больше ценить оставшихся друзей – на новых уже нет сил и нет желания их искать. А ещё можно нести свою старость как привилегию – мне должны: в частности, уважать, почитать. Впрочем, пожалуй, к хорошему это не очень относится. Заслужить уважение в старости намного сложнее, чем в молодости, так что требовать уважения по причине преклонных годов – это уже старческий каприз.
* * *Более противоположных натур, чем Цветаева и Ахматова, найти трудно. Но, быть может, самая главная разница: Цветаева записала свою биографию, день за днем, а Ахматова биографию создала. Цветаева почти всё рассказала о себе сама, об Ахматовой мы знаем в основном от других. Осуждать Цветаеву намного проще, потому что она подставилась гораздо сильнее Ахматовой. Откровенность и выворачивание души наизнанку всегда более уязвимо, чем скрытность.

