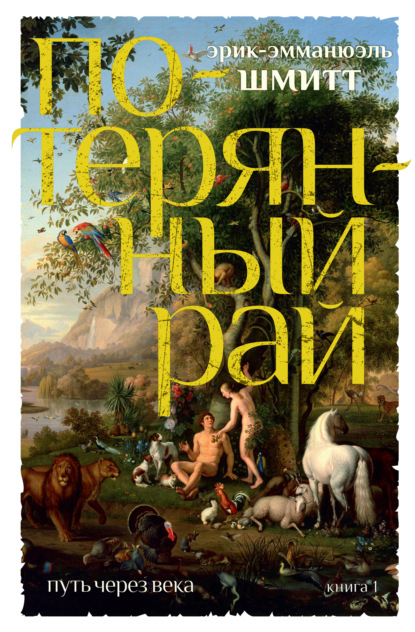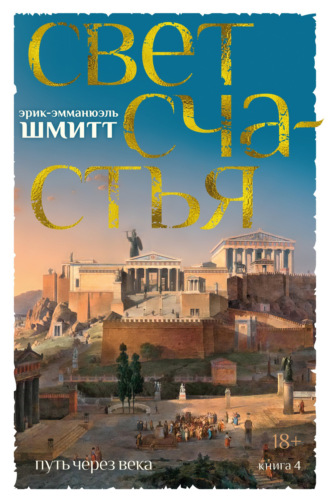
Полная версия
Путь через века. Книга 4. Свет счастья
Какое различие с египетскими колоссами! В Мемфисе и Фивах художники ставили на одну доску камень и идею. Перед монументальным фараоном невозможно было забыть о каменной глыбе, из которой высечена статуя, о ее весе, о ее гранитной плотности. Силуэт был прямым, фронтальным, напряженным, торжественным и монолитным, руки прижаты к торсу, ступни параллельны, разве что иногда левое колено чуть выступало вперед. Материал и замысел соединялись на равных.
Греки не довольствовались созданием простейших объемов, они ушли от жесткости, освободили сюжет от материальной основы, части тела – от цельного блока. Тут вскинулась рука, чтобы ладонь коснулась лба. Там напряглась нога, чтобы другая расслабилась. Немного отставленная нога сообщала движение спине и плечам, делая мраморные фигуры живыми. Их равновесие зависело от пропорций, а не от куска мрамора, доставленного из каменоломен. Эти Аполлоны и Афродиты уже обрели органическую плотность, неподвластную той массе, из которой их высек резец ваятеля.
– Подожди. Я хочу пить.
Дафна примостилась на край скамейки в тени, неподалеку от колодца, откуда женщины с амфорами, ведрами и котелками черпали воду. Тут же стояли ослы, на которых грузили сосуды с водой.
– Тебя интересуют только статуи, – весело упрекнула меня она, – но на всякий случай тебе скажу, что колодцев и источников здесь не меньше.
Она достала флягу, подошла к женщинам, произнесла несколько слов, и они пропустили ее вперед. Когда она вернулась, я удивился:
– Что ты им сказала?
– Ничего.
– Но тебе же не пришлось стоять в очереди!
– Ах, это рабыни.
Ее уверенный тон означал, что вопрос закрыт.
Вокруг нас жужжали осы, но вскоре они поняли, что мы не пьем сладкого нектара, и разочарованно улетели. Искоса следя за ними, на каменных парапетах лежали в полудреме кошки.
Я глотнул воды и снова стал разглядывать статуи; они создавали особую атмосферу. Чувственные и спокойные, они вышли подышать свежим воздухом. На расстоянии они могли показаться маловыразительными, но вблизи обнаруживалось, что они полны эмоций, впрочем сдержанных и ясных; им не были присущи опасные страсти вроде страха, гнева, презрения и ненависти. Если в традиционных рассказах об их приключениях они совершали худшие бесчинства и заслуживали самой суровой критики, то на постаменте они проявляли свою лучшую сторону. Справа от меня над всеми властвовал блюститель порядка и справедливости Зевс, столь непохожий на другого Зевса, обманщика, убийцу, сластолюбца, совратителя и насильника, без долгих раздумий метавшего молнии во все стороны. Стоявшая у кипариса Гера изображала хорошую мать и нежную супругу, и ничего общего с Герой-ревнивицей и злопамятной мстительницей у нее не было. Возвышаясь над фонтаном, Гермес смыл все свои хитрости, проказы и бездумный эгоизм. Черты Афины очистились от надменности, проявлявшейся иногда у этой богини мудрости и ума в отношении тех, кого она считала необразованными и глупыми. Эти портреты говорили о том, чего ожидает город от своих обитателей: сдержанности. Город нес в мир таящуюся в глубине нашего сердца жажду благоразумия. Это здравомыслие, перетекающее от одной статуи к другой, с агоры на другие площади, неизбежно просачивалось и в наши мысли. Из необузданных богов прошлого город изваял лучших богов, способных нас просветить. Тем самым он поощрял рождение нового человека, ответственного, развитого, надежного и мудрого.
– Смотри, а вот и Перикл.
Дафна указала мне на какого-то человека. Даже живя отшельником на Парнасе, я слышал о Перикле: усиление Афин связывали именно с ним. С тех пор как он занялся общественными делами, город стал богатеть, появились прекрасные храмы; особенно хорош был Парфенон, увенчавший Акрополь, – все наперебой хвалили его барельефные фризы.
– Как, он ходит без вооруженной охраны?
Дафну рассмешило мое удивление.
– А зачем? Он гражданин, как и остальные.
– Он властитель.
Дафна пожала плечами:
– Власть он принял из рук граждан. Они ему ее вручили, они могут и отнять. Власть преходяща. Нам противны те, кто за нее цепляется.
– Тогда чем же Перикл так знаменит?
– Он убеждает народное собрание. Он много раз был избран стратегом, а это одна из немногих должностей, определяемых не жребием, а голосованием.
Из ее объяснений я понял немногое, но мне не хотелось, чтобы она это заметила. А она уже переключилась на другое:
– У нас есть неотложная проблема, Аргус.
Всякий раз, когда она произносила это имя, я не сразу вспоминал, что речь идет обо мне.
– Я живу у своей старшей сестры. Она из кусачих.
– То есть?
– У нее нелегкий характер, и после смерти наших родителей она считает себя моей опекуншей. Я не могу делать, что мне хочется. Если я расскажу ей о нашем союзе, заключенном в Дельфах, она может и укусить.
– Укусить?
– После одного укуса я до сих пор не пришла в себя. Ксантиппа способна разозлиться не на шутку, лишить меня свободы, отравить или оклеветать, чтобы ты предстал перед трибуналом. Когда она в ярости, ее воображение не знает удержу. Ее все боятся.
– И зачем ты с ней живешь?
– Но разве у меня есть выбор? Она ведет себя как старшая, желает мне лучшего, а моего мнения не спрашивает. Давай подыщем тебе жилье, ты там поселишься, а я вернусь домой одна. В ближайшие дни подумаем, как ее умаслить.
Я стиснул ее руку:
– Я не хочу с тобой расставаться.
Она порывисто расцеловала меня в обе щеки и шепнула на ухо:
– Я приду к тебе, как только сумею. Ночью наверняка… Ксантиппа спит как чурбан, и разбудить ее может разве что собственный храп.
– А ее муж?
– Ах, он милый, но почти всегда в отлучке. От этого характер сестрицы еще хуже.
– У них есть дети?
– Один мальчик, Лампрокл. Остальные умерли при родах.
– Всего один?
– Я же говорю, муж всегда в отлучке!
Дафна стремительно встала, и мы пошли искать мне жилье.
Оставив позади просторный центр города – храмы, агору, Пникс, театр Диониса, – куда стекались горожане и верующие, ты оказывался в других Афинах, не затронутых градостроительным высокомерием: тут вились в обход холмов кривые улочки, между ними были устроены проходы. Дома шли вразнобой, широкие тут, высокие там, то обветшалые, то новенькие, с иголочки; а то вдруг без видимой причины какие-то постройки выступали из линии домов вперед.
Я любовался сноровкой Дафны: ее молочно-белые ноги в плетеных сандалиях как сошли чистыми с пыльных дорог, так чистыми остались и теперь, когда мы ступили на немощеные улицы. Она неслась летящей походкой, ловко огибала потоки мутной воды, прыгала через лужи, обходила нечистоты. Когда мусорщики-рабы выходили прочистить желоб, она отбегала на другую сторону.
– Лучше исчезнуть до их появления, – пояснила мне она, – потому что, завидев их, жители выплескивают ведра грязной воды прямо им под ноги. Ксантиппа предложила, чтобы чистильщики предупреждали о своем приближении бубенцами или трещотками, но ее и слушать не стали. Вот если бы об этом сказал мужчина! Ну, мы уже близко!
Мы петляли по извилистым улочкам; воздух был напоен ароматами мяса, которое хозяйки жарили на шампурах.
– Иди лучше посередине улицы! – крикнула мне Дафна.
Я ее не послушался. Мне казалось разумнее жаться поближе к стенам, а не скользить по желобу, полному нечистот.
Тут-то меня и стукнуло доской.
Удар был неожиданным, я не понял, что произошло.
Я ошарашенно замер, нос горел, лоб раскалывался от боли; передо мной возникла деревянная перегородка, которой секунду назад не было и в помине. Ослик с бархатными глазами, которого я вел за собой, взревел.
Из-за створки появилась физиономия и укоризненно буркнула:
– Я же постучал!
– Простите?
– Я постучал. Вы что, не слышали?
Незнакомец высокомерно удалился, закрыв за собой створку двери – ибо это была дверь его дома.
Видя мое удивление, Дафна рассмеялась:
– Как думаешь, почему я советовала тебе идти посередине?
– Но…
– Двери распахиваются наружу. Они выходят на улицу! Чтобы предотвратить неприятность, стучат не перед тем, как войти, а перед выходом. – Она поторопила меня, потянув за руку. – Тут всегда можно найти комнату.
Мы шли по улочке с белеными двухэтажными домами. Хозяева занимали нижний этаж, и если семья была небольшая, то верхний сдавали заехавшим в Афины селянам, проезжим торговцам и путникам.
После нескольких попыток, не увенчавшихся успехом, Дафна заметила крепкого детину, который возился на крыше с черепицей.
– Дурис!
– Здравствуй, моя красавица!
– Ты снимаешь черепицу или укладываешь?
– Перекладываю! Этот паршивец с Хиоса наконец-то убрался вон!
Дафна радостно обернулась ко мне:
– Ну вот!
И крикнула хозяину, который выравнивал коралловые глиняные черепки:
– Я привела тебе постояльца! Из Дельф. Он платит вперед.
– На какой срок?
– На месяц.
Здоровяк придирчиво осмотрел меня, отер вспотевший лоб, кивнул черной с проседью бородой и буркнул:
– Пусть живет.
Пока он спускался, Дафна пояснила мне ситуацию:
– Когда собственники сталкиваются с неплательщиком, они с ним не церемонятся. Либо снимают дверь, либо разбирают крышу. Дурису удалось выкурить судовладельца с Хиоса, который несколько месяцев прожил на дармовщинку.
Мы с Дурисом очень скоро сошлись в цене, и я перетащил свои пожитки с ослиной спины в две комнатушки, обитателем которых я стал.
– Привяжи своего осла во дворе у моего брата, – попросил Дурис, махнув рукой в сторону.
Я отошел в сопровождении ослика, и по камням звонко застучали его копыта; Дурис тем временем засыпал Дафну вопросами, пытаясь выяснить, как мы познакомились. Когда я вернулся, Дафна шепнула мне на ухо:
– Я исчезаю, иначе пойдут сплетни и слухи дойдут до Ксантиппы. Я живу в трех улицах отсюда. Ты заметил? Прямо к тебе ведет деревянная приставная лестница. По ней я к тебе и заберусь. До вечера!
Она сделала было пару шагов, но беспокойно обернулась:
– Ты за мной?
– Чтобы посмотреть, где ты живешь.
Она растерянно закусила губу.
– Обещай мне одно: что бы ты ни увидел, ни под каким предлогом не вмешивайся.
– А в чем дело?
– Что бы ни происходило между мной и моей сестрой, это касается только моей сестры и меня. Ты останешься в стороне и ввязываться не будешь. Согласен? Обещаешь?
– Обещаю.
И Дафна пошла. Ее походка изменилась. Она брела нога за ногу, плечи поникли, голова понуро опустилась, взгляд уткнулся в землю, она вмиг утратила свое обаяние и непринужденность: то была боязливая девочка, которая против воли возвращается в отчий дом.
Я крался за ней на расстоянии, чтобы к ее заботам не добавить новых.
Вскоре она остановилась перед более просторным домом, чем его соседи; за пристройками угадывался обширный внутренний двор.
Подметавший двор слуга удивился:
– Дафна!
Я заметил, как она вздрогнула. Слуга радостно повторил:
– Дафна! Дафна вернулась!
Очевидно, эта весть предназначалась обитателям дома. Дверь со скрипом распахнулась, и на пороге возникла женщина. Дафна торопливо засеменила ей навстречу.
Она не успела ступить на порог, как я услышал звонкую пощечину.
– Идиотка! Я уж решила, что ты умерла!
Дафна, потирая ушибленное место, спросила с наигранным добродушием:
– А если бы умерла, ты все равно меня бы ударила?
Прозвенела вторая пощечина.
– Я сидела как на раскаленных угольях.
– Ну а теперь ты довольна?
Ответом стала третья пощечина.
Дафна поняла, что для самооправдания иронический тон ей придется оставить. Удивленные прохожие останавливались и смотрели на драчунью. Ксантиппу их возмущенные взгляды не смутили.
– Что такое?
Она раздраженно крикнула в их сторону, готовая сцепиться и с ними:
– У меня этого добра полно! Кому хочется попробовать? Нет желающих? А то я запросто!
Зеваки отпрянули, понимая, что еще один любопытный взгляд может дорого им обойтись. Ксантиппа рявкнула:
– Проваливайте, нечего пялиться!
Те мигом разбежались.
Я тайком пристроился за углом сарая и не упустил ничего из этой сцены.
Несмотря на маленький рост, Ксантиппа выглядела внушительно: шишечка на увесистом шаре. Голова в соотношении с телом была смехотворно мала, вроде вишенки, водруженной на тыкву, а коротенькие ручки и ножки казались не конечностями, а бесформенными наростами, приделанными к основной массе.
Но еще больше озадачивало ее лицо. У Ксантиппы не было подбородка; ищи не ищи, его не было вовсе. Вероятно, он провалился в шею, оснащенную объемистым зобом. Зато нос, который обыкновенно упорядочивает черты лица, здесь полностью разрушал порядок и даже заслонял собой все лицо; трудно было определить его форму: орлиный, с горбинкой, курносый, крючковатый или вздернутый? Нет, то был, скорее, нос картошкой, с двумя темными провалами ноздрей. Черные волосы, редкие и жирные, странно соседствовали с вечно насупленными кустистыми бровями, размаха неимоверного. Невнятно очерченный рот был вместилищем мелких, желтоватых, непрочно сидящих зубов. Над губой красовался пучок волос. Бурая с краснотцой кожа дряблых щек была испещрена пятнами, которые были скорее бородавками, чем родинками. А глубоко посаженные глаза еле выглядывали из-под набрякших век. Если бы то был портрет, написанный художником, зритель подумал бы, что мастер взялся за кисть после знатной попойки, решив изобрести новый человеческий тип, разрушив пропорции и смешав основное со второстепенным. Лицо Ксантиппы поражало обилием бесполезных и неприятных черт, выступавших на первый план. В общем, это лицо хотелось назвать ошибкой.
Ксантиппа проревела:
– Где ты была?
– В Дельфах.
– Почему ты меня не предупредила?
– Ты не отпустила бы меня.
Четвертая пощечина была стремительней предыдущих.
– Допустим, – согласилась Ксантиппа, сердито потирая ладонь, будто это Дафна ее ударила. – И зачем ты туда таскалась?
– Я советовалась с Аполлоном.
Ксантиппа возвела глаза к небу:
– Моя бедная девочка… И Аполлон проявил к тебе интерес?
– Он мне ответил! – возразила Дафна.
– Неужели? – хохотнула сестра. – Знать, у Аполлона времени невпроворот! И что же он тебе объявил?
– Что я выйду замуж!
Звякнула пятая пощечина.
– Само собой, выйдешь. Но неужто у него других дел нет, как заниматься тобой?
Одной рукой она почесала голову, другой – живот. Губы заслюнявились, сложились в гримасу.
– А зачем, вообще-то? Мне-то какая польза была от мужа? Один-единственный ребенок и куча хлопот.
– Может, тебе не очень повезло с мужем? – рискнула вставить Дафна.
Новая пощечина тут же заткнула ей рот. Что говорить, беседа с Ксантиппой больше смахивала на тренировку тяжеловеса.
– Дафна, я не желаю тебе той жизни, какая выпала мне. Я вышла за того, кого назначил мне отец, но лучше бы вышла за осла. С чего ты решила, что я уступлю твоим вечным капризам? Нет, я не заставлю тебя выходить за того, кто тебе не подходит. Лучше всю жизнь просидеть старой девой, чем неудачно выйти замуж.
С этими словами она широко раскинула руки, улыбнулась и воскликнула трубным голосом:
– Дорогая, я так за тебя боюсь! Иди же ко мне, уродина!
Я опешил: это страшилище называло красавицу уродиной? Но Дафна при этих словах бросилась сестре на грудь. Ксантиппа умиротворенно поцеловала волосы младшей сестрички и потрепала ее по щекам, которые только что отхлестала.
Дафна украдкой кинула взгляд в мою сторону, давая мне понять не только что ей известно, где я прячусь, но и что я могу смело возвращаться восвояси. Сестры вошли в дом, и я покинул свое убежище.
* * *Первые недели в Афинах меня переполнили. И тело мое, и сердце, и мозг горели огнем.
Дафна приходила ко мне каждую ночь. Она пробиралась по темным улочкам, не пользуясь ни светильником, ни помощью раба, несущего факел, карабкалась по лесенке и скреблась в мою дверь. Наши тайные встречи были бурными: мне не могли наскучить ни наши ласки, ни болтовня, и стоило Дафне шагнуть в мое жилище, как в нем воцарялась радость.
Как-то вечером мы отдыхали на моей постели и потягивали вино, закусывая его сушеными фигами и подсоленными семенами люпина; Дафна описывала мне сложный характер Ксантиппы, которая за неимением красоты вооружилась крутым нравом.
– Это гордость! Раз уж ее внешность отталкивает людей, сестра решила намеренно их терроризировать. Так она добивается признания.
– А как выглядит ее муж? Такой же урод?
– Вот уж два сапога пара.
– Какая удача, что их потомство оказалось скудным!
– Ах, бедная сестрица… Знаешь, она бранится как извозчик, ведет себя по-скотски, зато я могу не сомневаться, что она оттолкнет всех докучливых женихов. Она прекрасно понимает, что делает. В глубине души она меня уважает и всеми силами защищает мою свободу. Никто не любит меня так, как она.
– Я! – Как прилежный ученик, я мгновенно поднял руку.
Моя возлюбленная растаяла от удовольствия и возразила:
– А долго ли ты будешь меня любить?
– Пока тебе не надоест.
Если кому-то померещится в моих словах легкомыслие неразумного влюбленного, готового на все, что угодно, лишь бы нравиться, замечу, что в силу своего бессмертия я искренне намеревался оставаться спутником Дафны, пока она мною не пресытится.
Днями напролет я исследовал Афины. Меня завораживал пышный расцвет этого города-космополита, обилие торговцев, ремесленников, мореходов, художников и правоведов – выходцев из разных краев. Благодаря военному и торговому флоту Афины уверенно господствовали над многими землями. В ходе мидийских войн, прошумевших несколько десятилетий назад, все греческие полисы объединились против персидских завоевателей. После победы установилось своего рода разделение между двумя главными городами-соперниками, Спартой и Афинами. У каждого из них были свои союзники, и они условились сохранять это равновесие. Однако Афины превратили своих союзников в вассалов, дружественные земли – в колонии и стали получать от них немалый доход, не брезгуя угрозами и наказаниями в случае отказа раскошелиться. И если в городе правила демократия, то за городскими стенами Афины вели захватническую политику. Спарта протестовала, и между двумя городами разгорелась война. Через пятнадцать лет наступило затишье, что-то вроде замороженного конфликта, но недавно боевые действия возобновились.
Перикл и воплощал это правление: в пределах городских стен – приверженность к свободе, а во внешнем мире – силовые методы. Я нередко слонялся по агоре, стараясь уловить суть здешней политической системы, но статус чужестранца, легко узнаваемый по моему акценту, делал афинян недоверчивыми, и мне приходилось довольствоваться обрывками подслушанных бесед.
Как-то утром хозяин моего жилья поджидал меня внизу, возле приставной лестницы. Дурис был встревожен: отдувался, хмурился, нервно потирал руки, по его массивной шее струился пот.
– Это верно, что ты врачеватель? Дафна, помнится, говорила. Мой брат слег, больше не встает.
Он проводил меня к Калабису, разбогатевшему на выращивании олив; тот жил в просторном доме по соседству, в стойле которого нашел приют мой осел. Мы прошли через анфиладу комнат, одолели несколько ступеней и очутились в затененной спальне, устланной дорогими коврами и уставленной серебряными изделиями; слышался аромат ладана.
– Я привел тебе еще одного, – сообщил Дурис.
У изголовья больного стояли трое, облаченные в многослойные одеяния из крашеного льна; простертый на ложе мертвенно-бледный Калабис стонал и причитал.
– А человек с Коса? – проговорил бедняга, гримасничая от боли.
– Твои рабы носятся по всему городу. Вроде бы он еще не уплыл на свой остров.
Трое пожали плечами. Видимо, способности уроженца Коса они ценили невысоко. Когда Дурис вышел, они взглянули на меня с неприязнью:
– Как твое имя?
– Аргус.
– Откуда ты?
– Из Дельф.
Мой ответ произвел впечатление. Тут я понял, что эти врачеватели готовы проникнуться ко мне доверием, поскольку Дельфы пользовались репутацией всегреческого святилища и места чудесных исцелений.
– Из какой семьи?
Я вспомнил, что в Греции медицинская практика подразумевает принадлежность к династии: искусство врачевания переходило от отца к сыну. Здесь не было ни школ, ни официального обучения медицине, и врачебный опыт передавался в недрах семьи.
– Мой предок Подалирий был сыном Асклепия.
С ума сойти! Я бессовестно блефовал, возводя свое происхождение к богу медицины, описанному Гомером. Они, конечно, рассмеются и изобличат мое самозванство. Однако они восторженно улыбнулись:
– Приветствуем тебя, братишка! А мы, все трое, ведем свой род от Махаона, другого сына Асклепия.
Неужели они мне поверили? А может, тоже соврали? Легковерные они или циники? Так или иначе, они не внушали мне доверия. На них красовались разноцветные хитоны с бахромой, надетые один поверх другого и скрепленные искусно отделанными фибулами. Это выглядело настолько крикливо, что я не усомнился в чванстве этих целителей и даже заподозрил их в мошенничестве.
Калабис, остававшийся в стороне от нашей светской болтовни, напомнил о себе жалобным всхлипом.
– Приступим! – объявил старший из троих, непрестанно жевавший листья лавра.
Он склонился к Калабису:
– Сегодня утром ты не смог встать на ноги. Оскорбил ли ты вчера кого-то из богов?
– Нет.
– Подумай, вспомни. Может, ты плюнул на землю у входа в храм? Или попрал ногой священные дары? Споткнулся о приношения богу?
– Нет.
– Вспоминай не только о своих поступках, но и о произнесенных тобою словах. Может, о ком-то из богов ты высказался непочтительно?
– Нет.
– Ты очень разочаровываешь меня, Калабис. Ты размышляешь о моих вопросах недостаточно усердно.
И скорее обиженно, чем разочарованно, он передал слово своему краснолицему коллеге. Тот опустился на колени перед прикованным к постели страдальцем:
– Воевал ли ты?
– Да.
– Был ли ты ранен?
– Да.
– Куда?
Калабис с трудом пошевелился и указал на спину возле поясницы. Врач, еле сдерживая ликование, повернул пациента на бок и ткнул в спину:
– Тут?
Калабис взвыл, а краснолицый поднялся на ноги.
– Несомненно, в теле застряло острие копья. В моей практике подобных случаев было преизрядно. Итак, ты вознесешь молитвы Афине и Аресу, богам войны. Я снабжу тебя превосходными заклинаниями, очень действенными.
Но третий врач помешал собрату отпраздновать победу:
– Скажи, Калабис, а когда ты воевал?
– Двадцать лет тому назад.
– И прежде ты ни разу не чувствовал этой боли?
– Ни разу.
– Странно, что ты все это время таскаешь в себе кусок железа… А каким оружием ты был ранен?
– В меня метнули камень из пращи.
Врач победоносно прочистил горло, ликуя, что опроверг своего коллегу, оправил складки гиматия и вынес вердикт:
– Его следует отнести в храм Асклепия для совершения ритуала инкубации. Пусть проведет там ночь, увидит священный сон. Коль скоро болезнь имеет божественное происхождение, в его сон придут боги, они либо принесут исцеление, либо укажут лечение. Таким сном обретают путь к исцелению.
Калабис стал было возражать, что из-за страшных мучений перенести его решительно невозможно. Но врач прервал его:
– Тогда пусть твой брат вместо тебя отправится в храм и проведет там ночь! Инкубация близкого человека посредством замещения работает очень хорошо. Важно, чтобы люди были кровными родственниками, тогда заместитель получит божественную консультацию. Не далее как в прошлую луну мы стали свидетелями подобного исцеления. Мать пришла вместо своей тучной дочери, страдавшей водянкой. Мать подверглась инкубации. Она пересказала мне свой сон: бог отрезал голову дочери и подвесил тело за ноги, шеей вниз; из шеи истекали потоки сальной жидкости, затем бог приладил голову на место. Когда мать вернулась к дочери, та уже исцелилась. Благодаря матери, присутствие которой в храме послужило связующим звеном, дочь, не покидая своей постели, тоже увидела священный сон. Бог ее исцелил.
Трое врачевателей возвели глаза к небу. В этот миг вошел человек в длинном плаще небеленого полотна, видимо уроженец Коса. Трое презрительно покосились на него и взглядом пригласили меня тоже установить диагноз.
Я присел, ощупал больного, обнаружил мышечное напряжение в разных частях его тела, осторожно поманипулировал его конечностями и предложил проделать несколько движений: поднять ногу, согнуть-разогнуть колени. И заключил:
– Калабис страдает ишиасом, воспалением седалищного нерва. Боль терзает его от поясницы до щиколотки. Укутаем его, а я назначу ему две мази. Одна успокоит боль, другая ускорит восстановление.
Трое врачей взглянули на меня с возмущением: