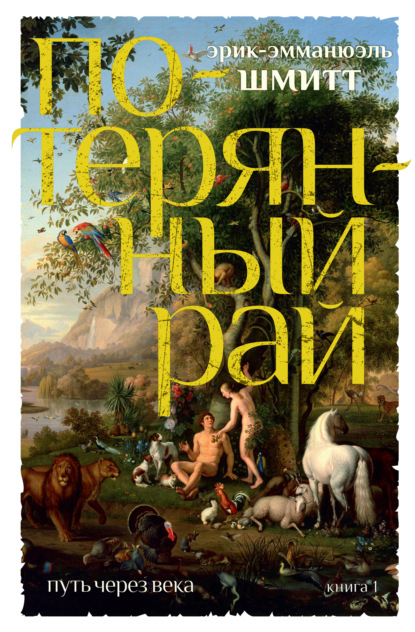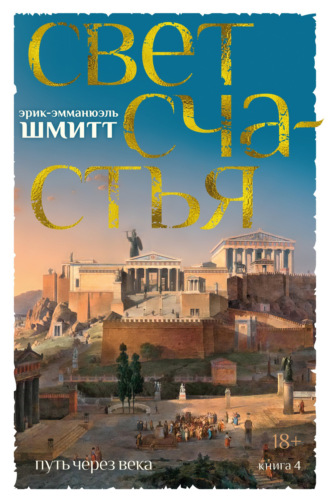
Полная версия
Путь через века. Книга 4. Свет счастья
Я не столько отдавался нашему трио, сколько предоставлял себя в общее пользование. Чувственная очевидность поначалу скрывала все прочее. Но теперь я стал вглядываться в свои чувства. Любил ли я Сапфо? Она меня завораживала, пленяла, я ею восхищался, но я подозревал, что, если она пресечет нашу связь, я не разрыдаюсь. Любил ли я по-прежнему Нуру? Да, несомненно, но с примесью ненависти! Я испытывал к ней не меньше злости, чем нежности. Имя Нуры уже не означало главную любовь моей жизни – оно стало символом власти. Она управляла моей жизнью. Хоть я к тому и приспосабливался, она никогда со мной ни о чем не советовалась; прекрасно зная мои достоинства и недостатки, учитывала их и направляла меня, куда хотела. Заботилась ли она о моем счастье или о своем? О нашем, ответила бы, конечно, она, если бы я отважился ее спросить.
На самом деле – как я понимаю свое давнишнее состояние сегодня, когда пишу эти строки, – я испытывал отвращение не к Нуре, а к ее власти надо мной, которую я же ей и вручил. Мне следовало бы ненавидеть себя, свою слабость, зависимость, подчинение; но так уж человек устроен, что он очень быстро освобождается от чувства вины, выворачивая свои недостатки наизнанку и приписывая их другим. Вместо того чтобы винить себя за неспособность возразить Нуре, я винил ее за непреклонность.
– Иногда нужно спасаться бегством от того, что любишь.
Так сказал однажды вечером Харакс, когда мы с ним сидели у причала за бутылочкой вина, и его слова пробудили во мне шквал мыслей. Уезжая под предлогом торговли, брат пресекал отношения с сестрой, которую слишком почитал, которая слишком восхищала его и занимала чересчур большое место в его жизни. Я понял, насколько его странствия были важны для поддержания эмоциональной гигиены: из Египта он возвращался мужественным и победоносным, а живя на Лесбосе и беспрекословно соглашаясь с сестрой, становился рохлей. Харакс был соткан из противоречий и вовсе не был примером успеха, и все же он сумел избежать роли всегда послушной комнатной собачки.
Назавтра его корабли отчалили по сияющим морским водам, а мой внутренний судья постановил: «Когда он вернется, я приму решение».
Но оно уже было принято. Следующие дни лишь помогли мне его укоренить. Я уеду. Я хотел освободиться от всяких влияний, стать самим собой – еще не испытанное мною приключение.
Но как это объявить? Решусь ли? Если Нура и Сапфо возмутятся, станут меня умолять отказаться от моей затеи, я, скорее всего, подчинюсь. Умолкну.
Это твердое тайное решение скрасило мои последние недели в компании двух моих возлюбленных. Я отдавался их прихотям, зная, что скоро положу им предел, я превратился в сексуальную игрушку, и мне открылось, что игрушкой быть куда проще, чем личностью.
И вот Харакс вернулся с Крита и сообщил, что завтра уедет снова.
Я закончил приготовления. Помимо растительных бальзамов и медицинских инструментов, я собрал папирусы: «Илиаду», «Одиссею», книги Гесиода – «Теогонию», «Труды и дни» – и стихи Сапфо. А также свои украшения и одежду.
Нура ничего не заметила. Я написал ей записку:
Нура, невозможно любить тебя так, как люблю тебя я. Но эта любовь не приносит мне счастья. Она меня ранит. С давних пор ты ставишь меня в ситуации по своему единоличному выбору. Я покидаю Лесбос. Я сержусь на тебя так же сильно, как и люблю тебя. Сержусь от всей души. Не пытайся меня отыскать, я исчезну. Живи как хочешь и считай, что я умер.
А для Сапфо я не оставил ни строчки. Я ничего не был ей должен. Мы в гармонии дарили друг другу сиюминутную многоликую радость. Мне было не в чем упрекнуть Сапфо и незачем с ней объясняться. Любовь приходит и уходит. Принимает разные обличья.
Рано утром я тихо выскользнул из постели, где мы спали втроем, забежал в сад за спрятанными там вещами, помахал рукой соловьям и бросился в порт.
Когда я, запыхавшись, прибежал к причалу, где стояло судно Харакса, он очень удивился:
– Как?! Ты уезжаешь? Я думал, что ты со своей женой и моей сестрой, вы…
– Конечно, Харакс. Но всему приходит конец. Я стараюсь быть хозяином своей судьбы.
Харакс не нашелся что ответить. В его черепушке заворочались противоречивые идеи, он разинул рот и вытаращил глаза… ему было непросто совладать с охватившим его душевным смятением и подобрать нужные слова. Наконец он очнулся и, не посвящая меня в ход своих мыслей, заключил:
– Я вижу, что теперь ты знаешь мою сестру.
* * *Неужели это был я? Бороздя бирюзовые воды Коринфского залива, я бежал от Нуры, от той, которую искал из века в век. Какой странный поворот! Я не решался представить себе ее реакцию, когда она обнаружит мое письмо. «Считай, что я умер». Я сожалел об этой фразе – теперь она казалась мне грубостью. Но раз уж мы разлучаемся, стоит ли застревать на этих тонкостях? Иначе не хватит сил достигнуть цели. Я бежал от колдуньи, от сильной женщины, которая рубила сплеча, которой мало было жить самой – она и мужчину вовлекала в задуманную ею жизнь. Назад мне дороги нет. Я отправлялся на встречу с собой.
Харакс высадил меня с моими пожитками на просторный песчаный пляж:
– Оставайся здесь. Но не вздумай лезть в воду, тут полно акул.
Я кивнул. Он указал ввысь – там, высоко над нашими головами, над оливковыми рощами, сосновыми и дубовыми лесами, скалистую гору разрезал пласт тумана или, наоборот, гора протыкала туман.
– Там, наверху, обитель богов. Лишь Аполлон проводит там несколько месяцев в году. Может, он оставит тебе пещеру. Греки не отваживаются туда подниматься, они останавливаются внизу, в храмах святилища.
– Мужчины? Женщины?
– И мужчины, и женщины.
– От женщин я намерен держаться подальше.
Харакс сочувственно ухмыльнулся, давая понять, как он мне сочувствует. А затем вдруг что-то сунул мне в руку:
– Сначала это доставит тебе страдание. Потом тебе будет приятно.
В моей ладони был букетик сухих цветочков; их лепестки еще не утратили прекрасного фиолетового цвета, сразу напомнившего мне о Сапфо.
– Я ношу при себе такой же, – сказал он, будто оправдываясь.
Он махнул своим морякам, и судно отчалило. Над парусами, играя на ветру большими крыльями, парила таинственная одинокая птица.
Так я очутился в Дельфах[6].
Интермеццо
Ноам положил ручку, отодвинул стул, глубоко вдохнул, раскинул руки и ноги, превратившись в четырехлучевую звезду. Легкое похрустывание суставов, мурашки… и его тело очнулось. Он медленно выдохнул. Когда пишешь, приходит сладостное забвение себя, и пробуждаешься от него с легким недомоганием: выныривая из книги, возвращаешься в свою телесную оболочку, обычную личность и среду так же стремительно, как вернувшийся на землю космонавт вновь обретает вес своего тела.
Он обвел глазами комнату. Бежевые тона. Простая обстановка. Ничего приметного. Стандартный номер среднего отеля XXI века. Его новое жилье? Скорее, убежище. Снова Ноам сбежал; снова Нура зашла слишком далеко; снова ему пришлось от нее отстраниться.
Перед ним лежала раскрытая тетрадь: левая страница была испещрена записями, правая была пуста и ждала продолжения.
Он зашагал по комнате. Спустя две с половиной тысячи лет его взволновало то, что ему сейчас открылось. Его потрясло воссоздание далекой эпохи. Его охватили сожаления, и он уже не знал, оправдывает ли того Ноама, который покинул рай Лесбоса, этой драгоценности, затерявшейся в темно-синем ларце морского простора, заодно отбросив и другую ценность – их любовное трио с Сапфо и Нурой. Безжалостная ностальгия пробудила в нем восхитительные ощущения: бархатистость кожи, изгиб бедра, эта женская плоть, которую он так любит ласкать, лавина перепутанных на ложе волос всех троих, сладкая дремота после любовных восторгов, благоуханный храм их постели, пристанища необузданности и духовной утонченности, где не было места ни мелочным счетам, ни ревности. Ноам злился на себя за то, что считал, будто Сапфо повелевает Нурой, сделала его супругу просто элементом экспериментального любовного уравнения, – а ведь эта женщина была истинным воплощением любви, воплощает ее и теперь благодаря своим спасенным от небытия стихам, которые сокровенно разговаривают с людьми и сегодня. Какой же он болван!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Предвосхищение Суэцкого канала последовательно носило имена правителей, участвовавших в его строительстве, укреплении и расширении. Нехо II прокладку канала не закончил, хотя весьма ее продвинул: пыл этого воинственного правителя угас, когда некий оракул предсказал, что такая артерия будет полезна не только жителям Египта, но и его врагам. Так, когда работы возобновились во времена персидского владычества, канал Нехо стал каналом Дария. Затем, в ходе работ по восстановлению и углублению, он переименовывался в канал Птолемея и реку Траяна.
К несчастью, в XV веке в силу климатических изменений восточный рукав Нила, куда впадал канал, сместился к западу, промежуточные озера постепенно пересохли, канал стал несудоходным и был заброшен, его занесло песками. С тех пор суда, которые направлялись в Азию, огибали всю Африку, минуя мыс Доброй Надежды.
Как ни странно, желание восстановить канал, который вновь связал бы два моря, в течение следующих веков стало навязчивой идеей французских деятелей, особенно министров Генриха IV и Людовика XIV, которых привлекала перспектива не только прокладки торговых путей, но и присоединения к деяниям великих фараонов. Наполеон Бонапарт изучил этот вопрос во время Египетской кампании, и в итоге во времена правления его племянника Наполеона III дипломат и предприниматель Фердинанд Лессепс проложил бесшлюзовый канал между Порт-Саидом на Средиземном море и Суэцем на Красном; канал открыли для судоходства в 1869 году. В самом начале XXI века правительство Египта углубило канал и проложило параллельный, что позволило организовать двустороннее движение. –Здесь и далее примеч. автора, кроме отмеченных особо.
2
Многие оригинальные тексты Сапфо известны в виде фрагментов, в разное время найденных на обрывках папируса и затем пронумерованных. Французский текст, в качестве автора которого упоминается Робер Бразийаш (Robert Brasillach), представляет собой соединение двух таких фрагментов и концовки стихотворения «Гонгиле».
Эрос вновь меня мучит истомчивый —Горько-сладостный, необоримый змей.(Фрагмент 130, перев. В. Вересаева)Словно ветер, с горы на дубы налетающий,Эрос душу потряс мне…(Фрагмент 47, перев. В. Вересаева)…Смерти темным томленьемЯ объята,Жаждой – берег росистый, весьВ бледных лотосах, видетьАхерона,В мир подземный сойти,В дома Аида».(«Гонгиле», перев. Я. Голосовкера)Французские переводчики вводят рифмы; однако у Сапфо, по всей видимости, рифм не было. Русская традиция переводов античной поэзии, как правило, воспроизводит структуру оригинала. –Примеч. перев.
3
Перев. В. Вересаева.
4
Цитируются начало «Илиады» Гомера в переводе Н. Гнедича и «К музам» Солона в переводе Г. Церетели.– Примеч. перев.
5
Сапфо никогда не стала бы представляться лесбиянкой – разве в том смысле, что она уроженка Лесбоса. Понятия гомосексуальности, гетеросексуальности, бисексуальности, введенные в XIX веке (два первых – венгром Карлом Марией Кертбени, третий – австрияком Зигмундом Фрейдом), были абсолютно неуместны в Греции того времени. В то время сексуальность не давала основания для идентичности. Можно было поддерживать отношения с одним или другим полом или даже с обоими, но никому бы и в голову не пришло приписывать человеку ту или иную категорию, неизменную сущность, тем более сводить его натуру к гетеросексуальности, гомосексуальности или бисексуальности. Мне важно это подчеркнуть, чтобы оспорить современный взгляд на эти вещи. Для греков любовь была вмешательством богов; они понимали сексуальность как неизбежность. И эта неизбежность парадоксальным образом влекла за собой некую текучесть, легкость бытия. Все имело значение, но ничто не застывало, не давило своей тяжестью. Влюбленному не приходилось оправдывать свои наклонности. Желание и чувственность не противостояли норме. Сегодня мы столкнулись с проблемами, которых раньше не было, поскольку духовность, на которую опирался греческий мир, не считала проблематичными определенные типы поведения. Если боги проявляли непостоянство, то именно потому, что ими двигало желание; а рассказы об их приключениях служили ориентиром для юных умов. Верховный бог и блюститель порядка Зевс, супруг Геры и любитель смертных девиц, околдовал юного Ганимеда. Бог морей Посейдон, несмотря на любовь к своей супруге Амфитрите, поддерживал связь с Пелопом. Аполлон был лаком и до девушек, и до юношей, среди которых были Гиацинт и Кипарис. Все они были бы весьма сурово осуждены Богом трех монотеистических религий, которому вскоре суждено было восторжествовать. Не говоря уже о священниках и представителях монашеских орденов этих религий…
Я тут говорил о мужчинах, потому что женщинам, увы, не дозволялось иной сексуальности, кроме как в качестве производительницы – или же в услужении мужчинам, в роли гетеры или проститутки. Сапфо была исключением, подтверждавшим правило.
6
Фиолетовый цвет, который связывают с моей дорогой Сапфо, стал символизировать лесбиянство, а в XXI веке литературу, повествующую о влечении между женщинами, стали называть «фиолетовой литературой» или «литературой фиолетовых чернил». Но путь, который привел к этой ассоциативной связи, оказался очень неровным. Сапфо, с чарующей улыбкой на устах и увенчанная фиалками, осталась важнейшей поэтессой греческого национального достояния. Ее цитировали такие великие философы, как Платон и Аристотель, а их ученики наизусть читали ее стихи. Однако христианство сыграло тут роковую роль. Множественная любовь и воспеваемые Сапфо удовольствия были забыты, намеренно или по небрежности: ее стихи в Средние века исчезли. Возродил их Данте, хотя и не мог извлечь ее творчество из-под слоя пепла. Позднее Сапфо вновь заняла свое место, служа как женскому движению, так и лесбиянству. Сначала Сапфо была феминистской фигурой, знаменем таких писательниц, как Мадлена де Скюдери в XVII веке или Жермена де Сталь в XIX веке: обе считали ее своей предшественницей. И наконец на рубеже XIX–XX веков она превратилась в икону лесбийской любви благодаря двум поэтессам, Рене Вивьен и Натали Барни, которые сделали ее образцом манеры письма, посвященного женскому желанию, так что грациозная и воздушная Рене Вивьен была удостоена титула «Сапфо 1900». Ну а я в те годы очень веселился, сознавая контраст между высокой и утонченной Рене Вивьен, бледной, как лилия, и едва не падающей в обморок от худобы, и моей земной и пышущей здоровьем Сапфо, загорелой и крепкой. «Сапфо 1900» не имела ничего общего с настоящей, жившей двумя с половиной тысячелетиями раньше.
Однако в Нью-Йорке в 1970 году связанный с Сапфо фиолетовый цвет стал очень важным элементом в ходе протестов радикальных феминисток-лесбиянок «Лавандовая угроза», боровшихся за свое место в обществе. Признаюсь ли? Я очень горжусь, что знал, любил и восхищался Сапфо, я с волнением отмечаю, что она прошла через века, хотя вовсе о том не заботилась и полностью отдавалась чарам мгновения. Сапфо увековечила кое-что, о чем позднейшие цивилизации предпочли умолчать. Но, даже оставаясь невидимой и неслышимой, она вернулась! Она вышла за пределы литературы и общества и снова светит, сильная и непобедимая, как вечное солнце.