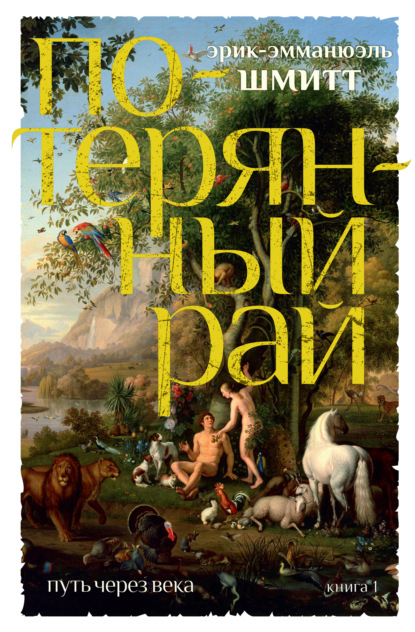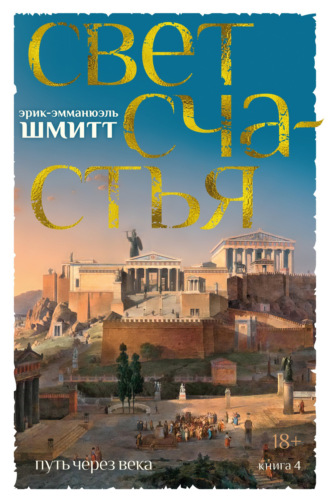
Полная версия
Путь через века. Книга 4. Свет счастья
Стоило его включить, и с экрана лилась лавина образов, звуков, споров, полемик, обвинений, комментариев, и Ноам тотчас оказывался в их плену. Новости летели отовсюду, в считаные минуты он становился свидетелем засухи, повлекшей лесные пожары, и катастрофического наводнения, циклона и антициклона, войны, разгоревшейся за восемь тысяч километров отсюда, и соседских ссор, которые приняли дурной оборот; он был поражен размахом землетрясения, видом недавно найденной мумии и присланной зондом космической фотографии. Никогда прежде мир не присутствовал в жизни человека так явно, как сегодня. Но парадоксальным образом информационный поток лишь усугублял одиночество. Мозгу Ноама было не под силу переварить этот шквал новостей. Слишком многочисленные и разнообразные, они увлекали его на несколько минут, затем утомляли, отупляли и под конец усыпляли. Ему не удавалось сосуществовать с нескончаемой пестрой хроникой этой вселенной – отснятой, смонтированной и озвученной. Либо мир картинок и звуков есть единственная реальность, и тогда Ноам в ней – пустое место; либо это лишь технические и идеологические выкрутасы, и тогда Ноам отменит их и снова станет хозяином своей жизни. Эти две столь разные данности – цифра и живая плоть – были несовместимы.
Ноам чередовал новостные оргии с минутами тишины, когда он ложился на спину и смотрел в потолок или же включал вентилятор, который, казалось, вот-вот взлетит в воздух. На улице стояла жуткая духота. Ступить босой ногой на раскаленный тротуар было невозможно, разве что для счастливых обладателей (какие в этом квартале встречались) желтой ороговелости, потолще копыта, на подошвах.
Описывая свой приход в Афины и вспоминая, как он был озадачен странным политическим режимом, Ноам понимал масштаб пройденного пути. Если верить телевизору, демократия сейчас очень востребована. Она, конечно, сильно изменилась: охватывает большие слои населения, скажем женщин, хотя метеков еще исключает, во всяком случае некоторое время; наконец, демократия считается скорее правом, чем преимуществом. Она теперь преуспела настолько, что служит прикрытием для авторитарных режимов, которые организуют голосование – или его имитацию, – затем подтасовывают результат и называют деспотов избранниками. То есть тоталитарные системы рядятся теперь в демократические одежды.
В дверь постучали. Хозяин отеля спросил, как долго Ноам рассчитывает здесь оставаться, и потребовал заплатить вперед. Ноам пообещал.
Опять хлопоты. У него не было ни гроша. Конечно, он предусмотрительно закопал в прошлые века там и сям кое-какой запас золота и драгоценных камней и мог после очередного возрождения при случае пользоваться им во время путешествий, но он никогда не прятал ценностей в Калифорнии, потому что и не жил здесь прежде, ведь до недавних пор эти края населяли только американские индейцы. Когда он стремительно покинул лофт, увидев, что Нура опять якшается с Дереком, то успел захватить только одежду. Да и что ему было брать с собой? До сих пор он кое-что зарабатывал, мастеря египетские древности. Но теперь?
Надо бы заняться этим снова. Но гранит недешев, к тому же у него нет инструмента, а от работы молотком и зубилом шуму не оберешься. Ему остается простейший метод изготовления фальшивок: делать глиняные таблички с шумерскими текстами. Это не затратно, только глины добыть. Долгие века знание языка Месопотамии было бесполезным, но после 1950-х годов археологи кинулись копать, эксгумировать тела и расшифровывать артефакты этой древней цивилизации, и теперь таблички, испещренные клинописью, будут нарасхват.
Зазвонил телефон.
Нура.
Ноам взял себя в руки. Затаив дыхание, он пристально смотрел на мобильник, превозмогая Нурино вторжение. Что она хочет ему сообщить? Как оправдает свое сближение с Дереком? Конечно, Дерек, обосновавшись в Силиконовой долине, финансирует многие высокотехнологические компании, которые поддерживают трансгуманистские проекты, но Нура в нем уже не нуждается. После атаки террористов ее дочь Бритту, рожденную от Свена Торенсена, отлично восстановили в экспериментальной клинике «Этернити Лабс». Зачем Нура опять связалась с Дереком?
Устав трезвонить и вибрировать, телефон затих.
Однако на сей раз Ноаму стало досадно, что он не отозвался. Если он не представлял, что́ Нура могла бы ему сказать, это не означало, что сказать ей нечего. Нет, он все время впадал с ней в крайности! То был слишком открыт, то слишком замыкался. С ней он утрачивал чувство меры.
Он вышел. Надо было найти способ раздобыть глины. Потом он нанесет на таблички гравировку, обожжет их в пиццерии, подмазав хозяйского сынка, дважды в день доставлявшего ему пиццу, а затем использует официальные каналы или теневые возможности Всемирной паутины, чтобы сбыть свои подделки.
Ноам шел не один час, чтобы оказаться за пределами городской застройки. Бродил по лесу и в зарослях кустарника в поисках речек, зная, что их ложе нередко выстлано глиной. Увы, глина этих мест оказалась негодной, неудобной для работы. Зато он нашел тростник и смастерил палочки для письма. Вернувшись в свой квартал, он убедился, что здесь ни в одном магазинчике не купить материалов для работы скульптора, – таких лавочек было полно в артистическом квартале Силвер-Лейк, отсюда далеко. Что делать? У него совсем не осталось денег.
Шагая мимо складских ангаров, он заметил сквозь приоткрытый дверной проем мастерскую, где занимались живописью, литьем, ваянием, граффити и трафаретной печатью. На верстаках лежали блоки глины, предназначенные для учеников-скульпторов. Как выяснилось, здание принадлежит ассоциации, которая помогает здешней молодежи из неблагополучных семей, ограждая ее от преступной среды. Программу спонсируют меценаты.
Двери захлопнулись. Разбежались последние подростки, и преподаватели заперли вход. Приняв равнодушный и рассеянный вид, Ноам слонялся поблизости и изучал, как можно сюда проникнуть с наступлением ночи.
В полночь он вернулся к ангару. Недолго думая, вскарабкался по задней стенке до небольшого люка наверху, который показался ему приоткрытым, вероятно для вентиляции. И правда, люк удалось распахнуть, Ноам проскользнул в его узкое отверстие – и очутился в крошечной туалетной комнатке. Операция прошла успешно! Ноам радостно толкнул дверь и выскочил на лестницу.
Когда он добежал до вестибюля, взвыли сирены. Система сигнализации вопила оглушительно. Ноам заметался. Попытаться улизнуть через нижний этаж в надежде найти лазейку и быстро оказаться снаружи? Или вернуться в туалет наверху и снова заняться акробатикой? Завывания сирен были невыносимы.
Сквозь матовое стекло он увидел в конце улицы мигалки. Полиция уже близко. Не теряя больше ни секунды, он взбежал по лестнице в туалет, вскарабкался на поперечную балку.
Никого. Патруль суетился у входа. Путь свободен.
Он стал спускаться по задней стене, погруженной в темноту, нащупывая точки опоры. Едва он коснулся земли, чья-то рука прижала его голову к холодному бетону ангара, звякнули наручники.
– Я взял его! – крикнул полицейский. – На месте застукал!
Часть вторая. Солнце Олимпии
1
Чурбан.
Меня бросили, как чурбан, вглубь темного подвала. Веревки мешали двинуться, затолканная в рот тряпка не давала позвать на помощь. Шею и бока сдавило, я еле дышал – так сильно приспешники Ксантиппы стянули путы и забили в рот кляп. Но я был не так угнетен, как разозлен. Может, мне следовало сдаться без сопротивления? Нападавших было так много, что я никак не смог бы от них вырваться. Но они устроили засаду и застигли меня врасплох, я отчаянно отбивался, и сила натяжения веревок, вонзавшихся мне в тело, была прямым следствием моего бешеного сопротивления. Неужели я так ничему и не научился, прожив столько веков?
Валяться связанным в кромешной тьме оказалось пыткой. Конечно, моя мучительница Ксантиппа рано или поздно объявится, она уж и так довольно меня истерзала, но ожидание казалось вечностью, мерзкой и унизительной, и оно добавляло к физическим страданиям еще и моральную пытку.
То и дело мне слышались звуки, легкий топоток, тонкое посвистывание. Понадеявшись было на появление людей, я обнаружил, что это крысы: шустрые глянцевитые зверьки вылезали из всех щелей и семенили вдоль стен. «Кажется, эта свора обжор считает меня незваным гостем, а вовсе не угощением», – подумал я, сообразив, что обилие выброшенных на улицу объедков избавит меня от атаки грызунов; тем более что крысы обожают глаза, этот жирный и сочный деликатес, лакомство, которое они выедают у трупов в первую очередь, как и вороны. Но когда один из их банды пощекотал усами мою щиколотку, а потом попробовал ее на зуб, меня передернуло, и мне удалось исторгнуть довольно звучное жужжание; крыса отпрянула, отказалась от своих намерений и побежала оповестить собратьев; те продолжили свою возню, но больше меня не беспокоили.
Знала ли Дафна о моей участи? Подозревала ли, что ее ноги ступают по полу, под которым меня заточили? Мною руководили две цели: убежать от Нуры и защитить Дафну; первая задача исключала вторую. Но в моем сознании выстроилась новая иерархия приоритетов, вытеснив вчерашнюю, когда на меня накатил страх. Теперь Нура отошла на второй план: во-первых, она меня не заметила, а во-вторых, в личине Аспасии она должна прекрасно выходить из любых положений.
По моему плечу скользнул бледный луч; подвал слабо осветился.
Топоча по ступеням, с факелом в руке спускалась Ксантиппа; крысы бросились наутек, и я был бы не прочь последовать их примеру.
Сойдя вниз, она подошла ко мне, наклонив голову: низкий потолок вынуждал ее пригнуться. Я снова удивился, насколько крошечная головка не соответствует массивному телу. Но тотчас же забыл об этой диспропорции, едва Ксантиппа наклонилась ко мне, – так ошеломляло уродство ее лица. В ее обличье не было и намека на правильность, симметрию и гармонию; когда она ко мне обратилась, ее рот задвигался, на спросив разрешения ни у носа, ни у глаз; зрачки пылали гневом, ноздри дрожали, а лоб оставался невозмутимым.
– Нам надо поговорить.
Она зашла мне за спину и развязала узел, удерживавший кляп, попутно выдрав клок моих волос.
– Кричи, никто не услышит. Но советую не орать.
Я отплевался и вдохнул полной грудью.
– Дай воды, пожалуйста.
Она метнула свирепый взгляд, означавший, что я капризничаю, но мою просьбу исполнила. Схватила припрятанный под лестницей кувшин и плеснула мне в рот какого-то пойла.
– Ну что? Господин соблаговолит со мной побеседовать?
Я кивнул.
– Итак, ты изнасиловал мою сестру.
– Нет, Дафна такое сказать не могла.
Она хрюкнула.
– Во всяком случае, я повторяю это на каждом углу.
– Но зачем?
Она пронзила меня удивленным взглядом, не ожидав, что я так легко разгадаю ее жестокие фокусы, которые, впрочем, скоро завели бы ее в тупик. Почувствовав свое преимущество, я осмелел:
– Раз ты любишь Дафну, значит ты желаешь ей счастья. Так знай, что я тоже желаю ей добра.
Моя искренность сбила ее с толку.
– Я люблю Дафну, – продолжил я наступление, – а Дафна любит меня.
– Какое самомнение!
Играя в открытую, я торопил события.
– Ишь какой скорый… Итак, ты говоришь, что Дафна в тебя влюблена? Ей так кажется. Эффект первого раза.
– Может, последнего?
Быстрота моих метких ответов ее раздражала. Когда ее ворчанье утихло, я вставил:
– Ты с любовью блюдешь интересы Дафны и ограждаешь ее от женихов, которые ей неприятны. Притом она надеется выйти наконец за любимого мужчину. Или я ошибаюсь, Ксантиппа?
Ксантиппа заметила деревянный ящик, толкнула его ногой в мою сторону и уселась на него. Меня настиг ее сладковатый запах с привкусом камфоры. Сидя напротив меня, она не показалась мне ниже ростом – так коротки были ее ножки; чтобы податься вперед, она не наклонилась, чему помешало бы ее огромное брюхо, а как будто подкатилась еще ближе. Ее серые зрачки недоверчиво изучали меня, а жестко прочерченные кустистые сдвинутые брови усиливали огонь праведного гнева.
– Кто ты такой?
– Аргус из Дельф.
– Твои родители?
Я мигом отрапортовал:
– Демандрос и Деянира. Они умерли.
И, руководствуясь принципом, что большие пустоты может заполнить только большая ложь, я решился запустить грандиозную фальшивку, которая однажды уже сработала:
– Демандрос, мой отец, потомок Подалирия, сына Асклепия.
– Ну да. А я – внучка Афродиты.
Осечка! Сварливая женщина оказалась не так наивна, как ее сограждане-врачеватели.
– Да какая разница, ты настоящий грек! – рассудила она. – Чтобы так лихо врать, нужно быть соотечественником Одиссея.
В общем, моя хитрость отчасти сработала. Помучив меня в свое удовольствие, Ксантиппа обратилась к рассудительности. Она задумчиво встала, пнула ящик обратно в угол и вернулась ко мне.
– Твой союз с Дафной немыслим: метек из Дельф и женщина из Афин! От тебя у нее родятся мальчики, которые не смогут стать гражданами. Для афинского гражданства необходимо, чтобы афинским гражданином был отец. Это прописано в законодательстве Перикла.
– Но…
– Невозможно! Я не потерплю в семье таких ублюдков.
В этот миг входное отверстие сверху приоткрылось и девчоночий голос пролепетал:
– Хозяйка, твой муж вернулся.
Ксантиппу передернуло. Видимо, эта неожиданность рушила ее планы. Она метнулась к выходу, ступени заскрипели, потом тяжко простонали под ее весом половицы над моей головой. Крышка захлопнулась, и до меня донеслись отголоски спора Ксантиппы с мужем.
– Что ты сделала, Ксантиппа? – прохрипел мужской голос.
– Так-то ты меня приветствуешь!
– Дафна плачет у себя в комнате. Я знаю, что́ ты вытворяла вчера вечером.
– Ну давай поговорим про вчерашний вечер: а ты где болтался? Если б я знала, связала бы по рукам и ногам не его, а тебя.
– Отойди и дай мне на него взглянуть.
– Зачем тебе?
– Дай мне посмотреть! Женщина, я у себя дома или нет?
– У себя, у себя, дорогуша! Хоть и не возьму в толк, как ты сподобился об этом вспомнить, ведь домой-то тебя не дождешься! Ты кончишь бездомным бродягой!
– Ну-ну, не преувеличивай!
– Я и не преувеличиваю.
– Ксантиппа!
– Руки прочь! Нежностями меня не проймешь.
– Ксантиппа!
– Я сказала: руки прочь, пьяница! Прибереги свои ухватки для ослов и ослиц.
– Не очень-то ты любезна, Ксантиппа.
– Чему ж тут удивляться!
Крышка откинулась. Мужчина обшарил погреб взглядом и решил спуститься.
Ксантиппа, грузно переминавшаяся за его спиной, ухитрилась его опередить. Она возникла передо мной и, тыча в мужа пальцем, проговорила:
– Познакомься с моим супругом, Сократом. Наконец-то муженек пожаловал!
* * *По распоряжению Сократа меня развязали и освободили. Мы прошли в гостиную и устроились на удобных ложах. При взгляде на яркие фрески с изображением виноградников, кипарисов и птиц казалось, что мы находимся на лоне природы; эта иллюзия подкреплялась и приятным ароматом, в котором слышались нотки лаванды, кедра и лимона.
– Взвешивай свои слова, Аргус, – предупредил меня Сократ хрипловатым голосом. – Ксантиппа может нас подслушать за этой дверью, а Дафна – за той.
Ворчанье подтвердило нам, что Ксантиппа, не удосуживаясь скрываться, шпионила за перегородкой.
– Прошу тебя простить дурные привычки моей супруги. Ее горячая кровь и бешеный темперамент усугубляют ситуацию, когда она хочет ее разрешить.
Ворчанье за дверью усилилось, в нем слышалось неодобрение.
– Она женщина отважная и добродетельная. Но она напрасно пытается скрыть свои качества, особенно от меня, ее мужа, я-то уж ее знаю. Я ее уважаю и люблю.
Тишина за дверью означала, что Ксантиппа чуть приструнила свой гнев или даже позволила себе короткий миг благодушия. Сократ предложил мне выпить. Хотя для возлияний было еще рановато, я почувствовал, что зарождавшееся между нами дружеское расположение требовало принять чашу этого нектара, и я согласился.
Когда я прислушивался к разговорам на агоре, до меня, разумеется, долетало и упоминание имени Сократа, одного из афинских софистов, учителей, способных выстроить речь, снабдить ее аргументами, всколыхнуть слушателей и увлечь их за собой. Здесь, в Афинах, влияние почти целиком зависело от владения словом. Если человек принадлежал к высшему классу, обладающему избирательным цензом, ему следовало владеть ораторским искусством; этого требовали как судебные процессы, так и политика – без виртуозного владения словом нельзя было ни обвинить, ни оправдать. Ладно выстроенные фразы не просто меняли течение жизни – они творили действительность: войну и мир, горе и радость. Ничто не ценилось так высоко, как красноречие. Незнание риторики, этой методики убеждения, серьезно подтачивало положение афинянина, ведь речь была из числа важнейших инструментов власти. А потому уроки Протагора, Эватла, Продика и Сократа, этих профессионалов, торговавших своим мастерством, были весьма востребованы[15].
Сократ, человек с необыкновенной репутацией, показался мне очень обыкновенным.
Это был коренастый мужчина невысокого роста, быстрый в движениях. Его полные огня глаза никогда не оставались в покое, они бегали вправо, вверх, вниз, влево, будто их будоражила некая стихия, и было не понять, движутся ли они в рассеянности или взывают к слушателям. Зато его губы оставались под строгим контролем. Хотел ли Сократ говорить? Прежде чем открыть рот, он упорядочивал мысли, и лишь когда его лицо становилось сосредоточенным и серьезным, это означало, что сейчас он заговорит.
Что-то в его внешности хромало. Сидел он или шел, он непрестанно поправлял свой короткий плащ из грубой ткани, одергивая его то на плече, то на брюхе, перетягивая то на спину, то на пах; сначала мне подумалось, что плащ плохо скроен, но потом я понял, что плохо выстроено само тело, кривоногое, мощное и неуклюжее. Каждая деталь в отдельности была сработана вполне сносно, однако все вместе приводило в замешательство. Крепкие икры сравнялись в обхвате с тощими бедрами; фигура была бы солидной, но ниже брюха сходила на нет; нервные и крепкие предплечья примыкали к хлипким плечам с повисшими дряблыми бицепсами, цветом бледнее капустной кочерыжки. В Сократе соседствовали зрелость и старость: по груди разбегалась черная гладкая короткая шерсть, которая никак не вязалась ни с окладистой седой бородой, ни с обширной глянцевой залысиной. Мужское и женское начала были уравновешены: суровый обветренный лоб, изборожденный глубокими морщинами, высился над мягкими пухлыми губами, похотливыми и влажными, которые нежились среди пучков никогда не остригаемой растительности. Нос Сократа, как и его супруги Ксантиппы, придавал лицу сходство со звериной мордой; что-то звериное добавляли и волосатые плечи – нет-нет да и проскальзывало в его облике животное начало. Я ощущал с ним неловкость, не понимал, нравится он мне или нет, и никогда не знал, к кому я обращаюсь.
– Почему ты не пришел к нам спросить разрешения жениться на Дафне?
– Я об этом думал, но она мне не позволила. Она боялась.
Возмущенный топот за дверью напомнил нам, насколько Дафна была дальновидна.
– Растолкуй мне, Аргус, почему я должен тебе доверять.
– Я люблю Дафну.
– Ты заблуждаешься. С кем я имею дело? Кто твои родители?
– Будь у меня лучшие или худшие родители на свете, разве это что-то меняет? Никто не повторяет форму, из которой выходит. Вот ты, Сократ, – разве ты определяешь себя свойствами своих родителей?
Сократ помолчал: он больше привык задавать вопросы, чем на них отвечать.
– Да, – задумчиво ответил он. – Моя мать была повитухой, и мое занятие с ее ремеслом схоже: я помогаю умам разродиться их мыслями.
– А твой отец?
– Он тесал камень. Вот и я, будучи педагогом, обтесываю проницательность юношей, оформляю их мышление, помогаю им стать собой. Мои родители обрабатывали материю, я же обрабатываю дух. Но не забывай, Аргус, ты переворачиваешь ситуацию с ног на голову, ведь оправдаться-то нужно не мне. Ты, однако, ловкач… Дафна расхваливала твое врачебное искусство. Кто воспитал тебя? Кто обучил?
И опять мне не оставалось ничего другого, как солгать, во всяком случае отчасти:
– Имя моего учителя Тибор, он целитель из Фракии. Он уже покинул этот мир. Его кончина так меня опечалила, что я уединился в парнасской пещере. Близ святилища я встретил Дафну; ее ужалил скорпион. Я вылечил ее, проводил до Афин. И мы уже не могли расстаться…
– Как ты связан с Дельфами? Намерен ли туда вернуться?
– Я хотел бы остаться в Афинах, где все движется, развивается и созидается. И твоя свояченица для меня значит больше, чем родные места.
Он снова посуровел: мои сентиментальные излияния утомляли его и раздражали. Он встал и подошел ко мне вплотную:
– Ты позволишь?
Он слегка приподнял край моей туники, ощупал плечи, пробежался пальцами по торсу, заглянул под набедренную повязку и пристально осмотрел мускулы ног.
– Красивый и неглупый.
Как посмел он меня трогать, ощупывать, оценивать, будто раба на рынке? Он отдернул руку, будто обжегшись, и качнул головой:
– Ты вполне мог бы быть афинянином.
Игривый тон, каким он высказал это неисполнимое желание, меня возмутил.
– Я удовольствуюсь статусом метека.
Сократ зашумел: если в Афинах меня запишут метеком, я раз и навсегда сохраню второстепенное положение, мне придется арендовать жилье, выплачивать для поддержания своего уязвимого статуса ежегодный сбор в двенадцать драхм да плюс множество прочих налогов, которые будут мне начислены; гражданину, убившему метека, вменяют неумышленное убийство; во время допроса гражданина пытать нельзя, а метека – можно; при явке на судебный процесс мне придется прибегнуть к поддержке поручителя; в случае войны я останусь гоплитом или матросом, без надежды на повышение, этим живым щитом, подставляемым под вражеские стрелы; и главное, я буду исключен из политики, самого важного и увлекательного, что есть в жизни афинян.
– Да мне наплевать, – возразил я. – Если за жизнь с Дафной нужно уплатить такую цену, я готов.
Сократ задумчиво посмотрел на меня, и тут в дверь забарабанила Ксантиппа. Сократ встрепенулся и спросил:
– Тебе сколько лет?
– В точности не знаю. Родители умерли, когда я был еще в пеленках.
– Замечательно!
Сократ просиял, призвал меня жестом к терпению и оживленно забегал по комнате; он перебирал множество вариантов, толкавшихся в его черепной коробке, изучал их, взвешивал, просеивал. Наконец он удовлетворился результатом внутреннего совещания и подошел ко мне:
– Все просто, Аргус. Чтобы юношу признали афинским гражданином, он должен быть сыном гражданина, и отцу надлежит представить сына своей фратрии, а затем, по достижении восемнадцати лет, вписать его в свой дем. С этого момента юноша получает доступ в экклесию[16] – собрание, которое решает все вопросы, – а при определенных условиях также в магистраты и в судьи. Вставай. И повторяй за мной.
Глядя мне в глаза, он стал произносить бессвязные фразы и велел точно воспроизводить их звучание; мой акцент он тут же исправлял. Стоило мне сосредоточиться, как дело быстро пошло на лад: за прошлые века я успел освоить множество наречий и приобрел фонетическую гибкость.
– Потрясающе! Думаю, дело у нас выгорит.
Что он затеял? Сначала расхваливал тонкости афинского законодательства, а теперь преподал мне урок произношения. Семейка Дафны была определенно помешана на статусе гражданина и отвергла наш союз навсегда. Я раздраженно подумал, что в плане умственных способностей репутация Сократа была сильно раздута. Я сел и тяжело вздохнул.
– Э нет, не расслабляйся, – протрубил он, – мы уходим.
– Куда?
– К твоим родителям.
* * *Был час сиесты. Под палящим солнцем все застыло. И иссушенный кустарник, и изнуренные козы в жухлой траве, и распластанные ящерицы, неотличимые от трещин на камнях, – все замерло под выцветшим безоблачным небом. Когда мы пробрались во двор этой фермы, затерянной на дальней окраине Афин, и я звякнул в металлический колокольчик, на его звук никто не вышел. Никто не шевельнулся. Только чуть пряднул ухом осел. Рабы, не занятые полевыми работами, спали.
– Никоклес, должно быть, в доме, – прошептал Сократ, будто боясь нарушить тишину.
Мы проникли в дом. Он тоже спал, и нас приветливо окутала его прохлада. Здесь царило легкое оцепенение, сгущая тишину и покой; на потолке дремали мухи. Бодрствовала лишь косая струйка света, вытекавшая из неплотно закрытых ставней, и в ней лениво кружила пыль.
– Вот он, – шепнул Сократ.
На соломенной лежанке спал старик, изборожденный морщинами до кончиков пальцев. Он был щуплый и смуглый, узловатый, как виноградная лоза, а рот в младенческой гримасе удивления округлился куриной гузкой, что выглядело и трогательно, и странно среди всех этих складок. Невзирая на летнюю жару, старик натянул на себя кучу шерстяных одеял.