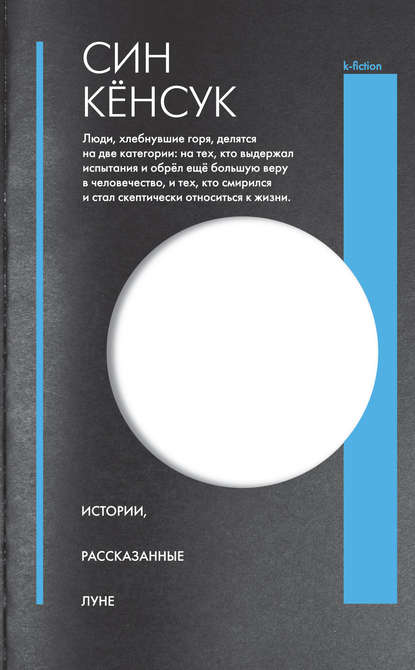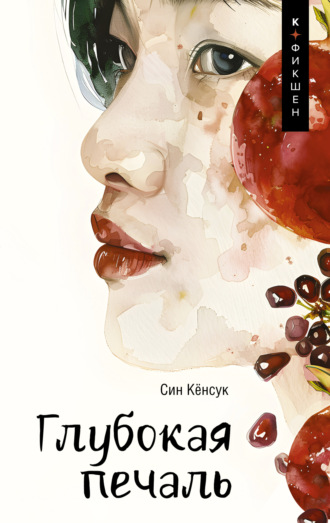
Полная версия
Глубокая печаль
Ван горько усмехнулся.
«Если бы только не было Сэ, то, возможно, мысли об этой женщине заполнили бы все мое существо, да с такой страстью, что я не смог бы больше ничего делать. Может быть, тогда все окружающие меня женщины не казались бы ею одной… Если бы только было возможно обратить мои чувства к ней, кто знает, может быть, я бросил бы все, и меня не постигла бы такая тоска!»
Ынсо дошла до Вана и встала рядом. По ее всегда бледным, но сейчас раскрасневшимся щекам было видно, что ей тяжело подниматься в гору. Казалось, Ван только что грустил об Ынсо, но, увидев ее рядом с собой, только и смог сухо произнести:
– Отдохнем немного и пойдем дальше.
Ынсо, о чем-то думая, вытерла пот и присела около Вана, который держал сигарету в руках. Ван впервые за столь долгие годы внимательно посмотрел на лицо Ынсо: четко очерченные брови, черные волосы, скрывающие длинную шею, узкие ноздри, порозовевшие щеки, узкие губы. Исчезло детское выражение, теперь перед ним предстала зрелая женщина. Это лицо, казалось, говорило ему: в этом мире есть нечто огромное и необъяснимое, до чего нельзя просто так дотронуться и через что нельзя просто так перешагнуть.
Но как-то само собой получилось, что скромное доверчивое лицо Ынсо сменилось непоколебимым уверенным лицом старшей коллеги по работе Пак Хёсон.
Если раньше Пак Хёсон только подолгу разглядывала Вана, то теперь, непонятно отчего, стала обращаться к нему не официально, а нежно называть на «вы» и все больше сближаться с ним, прекрасно зная, что у Вана есть Ынсо. И вот однажды Хёсон, живо улыбаясь, сказала:
– Ну зачем тебе она? Что она может дать тебе? Она не подходит тебе.
Но когда Ван ответил, что об Ынсо нельзя так просто говорить, Хёсон рассмеялась:
– Знаю! Но я хочу, чтобы ты знал, что и я тоже не такая женщина, о которой так просто можно говорить!
Ван сказал Ынсо, что надо передохнуть немного, но от чего-то – не прошло и трех минут – он потушил о землю сигарету и встал.
«Пак Хёсон. Да, она тоже из тех женщин, о которых нельзя говорить, не подумав».
Сегодня утром Вану позвонила Пак Хёсон. Это произошло уже после того, как Ван пригласил Ынсо поехать вместе с ним в Кёнчжу. Ван растерялся, не зная, как поступить. Было воскресенье, но пришлось ехать на работу, ведь ему никак нельзя было ослушаться приказа начальницы. Он позвонил Ынсо и оставил на автоответчике сообщение, что ситуация изменилась и он не может поехать с ней в Кёнчжу, и поехал к месту, назначенному Пак Хёсон. Но та… не приехала.
– Пойдем.
Молчание.
Ынсо бросила сердитый взгляд на Вана. На ее лбу даже не высохли капельки пота. Она хотела попросить посидеть еще чуть-чуть, но Ван уже развернулся к ней спиной. Ей надоело все время смотреть в его спину, она быстро вскочила и догнала спутника:
– Почему ты так себя ведешь? Что я тебе такого сделала?
– А что это ты так со мной разговариваешь?
– Как я с тобой говорю?
– Говоришь же: «Что я тебе такого сделала?»
– Потому что мне кажется, ты сердишься на что-то.
– Даже если я и рассердился, ты-то тут при чем?
– Тогда из-за кого ты сердишься? Кроме нас двоих, никого ведь больше нет.
Ван замедлил шаг и посмотрел на Ынсо. Слезы стали застилать глаза, и она быстро отвела от него взгляд: «Да, с тех пор как я начала взращивать этого человека в своей душе, я все время чувствую себя виноватой. Чем я рассердила тебя? В чем я виновата перед тобой? Раньше такого не было, но с тех пор, как моя душа стала стремиться к тебе, ты всегда поступал так, и мне невольно приходилось спрашивать об этом».
«Разве я сильно рассердился на эту женщину?» – подумал Ван и снова зашагал впереди.
Чем они выше поднимались в горы, тем насыщеннее становился запах леса и тем крупнее становились капли пота.
– Я еще ни разу не сердился на тебя, – наконец произнес Ван.
Молчание.
«Он всегда так. Даже когда пришла весна, он словно обиделся, что не расцвели камелии, так и не позвонил ни разу за всю весну. Наконец все-таки позвонил, но все время ворчит, жалуется, что он очень занят и нет времени на встречи. А теперь и вовсе заявил, что никогда не сердился на меня?!»
Ван одной рукой поправил на плече сумку с фотоаппаратом, а другой нащупал руку Ынсо и крепко сжал своей.
– Это правда, что я никогда не сердился на тебя. Даже если бы и рассердился, то рассердился бы на самого себя, – сказал Ван, но почувствовал, что его слова так и зависли в воздухе, и вдруг грустно улыбнулся.
«Что означают эти слова – он и не отпускает, и не подпускает меня к себе?»
«Хотя я и сказал правду и не обманул, что никогда не сердился на нее, но что же тогда отодвигает эту женщину на задний план моей жизни? Может, потому, что так мне удобнее? Может быть.
Потому что я уверен – она всегда ждет меня, что бы я ни сделал, когда бы ни пришел, она будет ждать.
Откуда же эти эгоистичные мысли? Когда она всего три-четыре часа не брала трубку, даже тогда мне уже казалось, что она не принадлежит мне, и тогда меня начинало терзать беспокойство: а вдруг она ушла к Сэ? У меня все валилось из рук…
И тогда я откладывал дела, находил время и приезжал к ней. – Ван посмотрел на Ынсо. – А вдруг и впрямь душа ее уже с Сэ? – Когда подобные мысли приходили ему на ум, он испытывал страшные мучения. – А сейчас, когда без сомнения видно, что она может принадлежать мне, как это ни парадоксально, я все же отодвигаю ее на задний план. Именно сейчас – в присутствии Ынсо, какая ерунда получается, все равно передо мной всплывает лицо Хёсон. Как же несовершенна душа, – подумал Ван и сконфузился. – Когда тебе кажется, что вот-вот достанешь и обретешь что-то необходимое, ты счастлив. Но как только обретаешь, даже с большим трудом, как вдруг теряешь интерес к этому».
Ван начал насвистывать какой-то романс. Ынсо посмотрела на него и открыто улыбнулась. Раньше, когда он насвистывал романсы, эти непринужденные звуки нравились ей, и, зная об этом, где бы Ван ни был, он непрестанно насвистывал что-то тихонько себе под нос.
Ван, пытаясь прогнать снова возникший перед ним образ Пак Хёсон, еще крепче сжал руку Ынсо: «Даже когда я сжимаю руку, ее милое спокойное лицо не может затмить лица Хёсон».
С какого-то времени Ван понял, что отношение Хёсон к нему стало особым, но это была лишь догадка, в действительности это никак не выражалось на деле. Один-единственный раз, когда вместе собрались старшие и младшие коллеги, Хёсон неожиданно перед всеми заявила Вану: «Знаешь, а ты так свежо выглядишь!» На какое-то время этот случай стал предметом для обсуждения. В компании стали говорить, что Хёсон положила глаз на Вана. Но дело не пошло дальше. Ни после того, как Ван окончил школу, ни после того, как поступил на работу к ней и проработал у нее около года – вплоть до того момента, когда подал заявление об увольнении, – Хёсон не выказывала по отношению к нему каких-либо других чувств, только деловые отношения между начальником и подчиненным. А он? Его лишь поражали слухи, ходящие о Хёсон.
Согласно многочисленным сплетням, которые долетали до Вана, Хёсон, дочь зажиточных родителей, имела немало знакомств и не просто с кем-либо, а со знаменитостями, но в итоге она первая ото всех отворачивалась.
Когда Ван оказался безработным, Хёсон спросила, нет ли у него желания вместе с ней управлять ее агентством. Не ожидая такого поворота событий, Ван задумался: с чего вдруг Хёсон, обеспеченная и самоуверенная, заинтересовалась его персоной.
– Все у тебя хорошо? – заметив, что Ван находится сейчас где-то далеко от нее, хотя и продолжает сжимать ее руку, наконец-то заговорила Ынсо. – Ты слышишь меня?
– Особенных проблем нет.
«Да, именно так. Особенных проблем нет», – подумал Ван и выпустил руку Ынсо.
Хёсон назвала свою компанию «Солнце и луна» – именно так, как придумал Ван. Приняла на работу двух служащих – дизайнера и редактора, прибавив:
– Хотя сначала и не будет ничего особенного, ты должен будешь придать нашей компании соответствующий вид. Занимайся не только редактированием, но и изданием книг и рекламой. Я знаю, что ты хотел заниматься такого рода работой. А капитал предоставлю я – сколько захочешь.
Хёсон не торопила события. Только отношения старшего к младшему переросли в отношения начальницы к подчиненному. Она не торопила события, только иногда говорила об Ынсо: «Что может дать тебе эта женщина? Она не подходит тебе».
Вана и Ынсо обогнала приятная на вид пара. Женщина что-то все время шептала мужчине на ухо. Время от времени они тихо смеялись, и женщина продолжала тихо рассказывать своему спутнику:
– Знаешь, почему скала Санса так называется? Один старик полюбил молодую девушку.
– Он что, не принимал в расчет разницу в возрасте?
– Хо-хо! Да разве любовь разбирается?
Ынсо заметила, как женщина похлопала по спине мужчину, а он сразу же положил на ее плечо руку и спросил:
– И что же было дальше?
– Старик очень страдал из-за этого и под конец повесился на дереве.
– Фу ты, какая ерунда.
– Ерунда, говоришь? Повеситься на дереве – ерунда?!
– А зачем умирать? Если уж начал любить, надо жить!
– Так или иначе, на месте его смерти выросла скала. С того времени девушка потеряла сон и все слабела и слабела. Мучаясь от неразделенной любви, дух старика в виде змея тоски – чтобы разделить с ней ложе – посещал девушку каждую ночь. И вот однажды девушка пошла на то место и взобралась на ту самую скалу: «Раз уж возраст помешал любви осуществиться, я стану вечной, никогда не стареющей скалой и прекращу это страдание!» – сказав так, девушка сбросилась со скалы. После этого рядом со скалой старика выросла еще одна скала.
– Настоящая чепуха!
– Да нет же! Говорят, что эти скалы охраняют всех влюбленных. Так и мы с тобой пойдем и перед ними поклянемся в нашей любви.
Мужчина еще сильнее обнял женщину за плечи:
– Да ты только подумай, кто может защитить любовь, если не сами влюбленные?
– Все равно пойдем и поклянемся.
– Ну, как хочешь.
Ынсо посмотрела на Вана. Видимо, он тоже слушал рассказ женщины – когда Ынсо посмотрела на него, он усмехнулся. «Клятва». Слова, произнесенные женщиной, отозвались в Ынсо эхом: «Ван тоже когда-то клялся мне. Говорил, что хочет жить только для меня. Как приятно, когда есть человек, который хочет жить ради тебя. Как огромно было значение тех слов, так огромно, что они оставили глубокий след в моей душе и навсегда врезались в память».
Поднявшись на скалу Санса, они увидели, что склоны обеих скал были уставлены свечами. Казалось, что скалы горят. Ван попросил подождать его на этом месте и начал удаляться ровно настолько, сколько делал снимков.
«И здесь столько людей, ищущих настоящей любви».
Ынсо тихонько присела на выступ скалы и в задумчивости стала наблюдать за подрагивающим пламенем свечей.
Они встретили ночь у обсерватории Чхомсондэ. День выдался ясным, и ночное небо было густо усыпано сверкающими звездами. Они оба сидели на траве, созерцая башню Чхомсондэ.
Ван сразу, как дошел до нее, устало уселся на траву и как будто вовсе не собирался вставать, словно давно искал это место. Он продолжал сидеть, казалось, что он хотел начать какой-то разговор, – доставал и доставал сигареты, курил и тушил их об землю, и это было все, что он мог делать.
Сначала Ынсо в одиночестве обошла башню, осмотрев все вокруг и ожидая, что Ван что-нибудь скажет, начала кидать камушки, но это надоело, она села около Вана и стала смотреть, как зажигаются звезды.
Прямо над башней Чхомсондэ сверкала и смотрела на них одинокая звезда. Может быть, тысячу лет назад кто-то тоже сидел на этом же месте и наблюдал за этой звездой, а если это и так, о чем же он мог думать, видя ее сверкание?
Звезда сияла невинным светом, а башня обсерватории почудилась Ынсо голодным зверем – люди входили в нее, и от них не оставалось и следа.
Ынсо поежилась. Ей показалось, что Чхомсондэ гигантскими шагами вот-вот настигнет и поглотит ее и Вана. Вокруг было так тихо, что было прекрасно слышно, как шелестят травинки от ветра. Каждый раз, когда Ынсо что-то воображала, то начинала бояться. Погруженная в свои мысли, она уткнулась лицом в грудь все еще недоступного Вана.
– Мне страшно.
Ван очнулся от прикосновения – Ынсо пыталась спрятаться у него на груди – и положил руку ей на голову.
– А чего ты боишься?
– Всего.
На глазах Ынсо выступили слезы: «Просто страшно. Страшит все то, что было раньше. Страшусь самой себя, потому что без памяти влюбилась в тебя. Боюсь вон той звезды, детства, которое надо помнить, и одиночества, которое наполняет меня, даже когда нахожусь рядом с тобой. Когда ты сидишь тут, словно один на всем белом свете, я чувствую себя так, будто у меня нет ни рук, ни ног. Поэтому и страшно».
Ван прижал голову Ынсо к своей груди, и она глубже уткнулась в нее.
– Не бойся.
Молчание.
– Не бойся.
«Она что, плачет?» – он почувствовал, как намокло место, куда уткнулась Ынсо.
– А что плачешь-то?
Молчание.
– Ынсо?
«Я плачу, потому что не знаю, кто ты. Плачу, потому что не знаю, что мне делать рядом с тобой, когда ты вот так одиноко сидишь. Мы провели столько времени вместе, а что же мы делали? Не могу даже вспомнить, поэтому плачу. Почему ты так поступаешь? Почему до сего дня я так и не узнала, кто ты такой?»
Через какое-то время Ынсо подняла голову с груди Вана и посмотрела на небо: легкое прозрачное облако чуть прикрыло звезду. Ван достал сигарету и закурил. Летний ночной ветерок доносил до нее запах шиповника, но запах сигареты поглотил его.
Ынсо отодвинулась от Вана и, обхватив колени, посмотрела на небо: раннее лето, ночь, прозрачные облака все плывут и плывут, заслоняя звезду. Ынсо постаралась проследить путь одинокого облака.
«До каких же пор будет болеть душа?»
Когда облако исчезло, она оторвала свой взгляд от неба и перевела на Вана: «А куда смотрит он?» Но на что смотрит он, ей не узнать никогда. Даже сидя рядом с ней, Ван оставался один во всем мире.
Глядя на него, поняла, что ничего не понимает.
– Скажи что-нибудь…
На такую скромно отчаянную просьбу, Ван промычал:
– Угу… А что сказать? – и посмотрел на замолчавшую Ынсо.
Какое-то время они посидели, Ынсо попыталась вновь заговорить, но Ван опередил:
– Что?
Молчание.
– Что тебе рассказать?
Она сидела, обняв колени, и в ответ на этот вопрос, что же ей рассказать, Ынсо расхохоталась.
– А что ты смеешься?
– Ты любишь меня?
Молчание.
– Ну?
Молчание.
«А я люблю тебя, Ван. Твою непредсказуемость. Твою осторожность. Твою неуверенность. В моих глазах теперь нет ничего прекраснее тебя. Но это я не могу тебе сказать. Если я так скажу, ты еще больше удалишься от меня. Чтобы удержать тебя около себя, мне нужно говорить, что я тебя не люблю, а люблю Сэ, – это единственный способ удержать тебя около себя. Это не ново вовсе. Ты был таким еще в детстве. Только когда я была рядом с Сэ, ты был добр ко мне. Когда Сэ срывал две кукурузы, ты срывал три. Именно таким ты был всегда. Но это же было в детстве. Теперь мы другие».
– Ну, скажи! – не унималась Ынсо.
Молчание.
– До каких пор это будет продолжаться?
Молчание.
– Если ответишь – до каких пор, я больше ничего не буду спрашивать.
– Ынсо… – начал Ван и хотел притянуть ее к себе за плечи, но она оттолкнула его руку, а Ван как сидел, так и улегся на траву:
«Она права. Даже сейчас мне становится неприятно, когда я думаю: а что, если бы она стала женщиной Сэ? Но…»
«Ты и твоя тоска. А я? Куда я должна деться со своими чувствами?
Не знаю. Мне больше нельзя ничего говорить… Нельзя больше спрашивать, любишь ли ты меня… Когда я думаю о тебе, меня то пронизывает холод от страха, то начинает бросать в жар…
Забраться бы мне куда-нибудь на небо или зарыться в землю и исчезнуть… Только этого и хочется…
Хотя говорят, что можно было бы найти другой выход… Все так говорят… Если есть любовь, любящие души дополняют друг друга и им не скучно… Друг друга взращивать… Придавать друг другу желание жить…
Я сказала, что люблю тебя, ради всего этого… Но почему же ты все время отталкиваешь меня? Почему ты даже не даешь приблизиться к себе? Что я делаю не так?»
«Пусть будет так, Ынсо, но это еще не все. Даже если не брать во внимание Сэ, я всегда скучаю по тебе: и когда расцветают цветы, и когда отцветают. Каждый раз, когда думаю: ″Как же мне жить без тебя?″ – мне становится ужасно холодно».
«Любую проблему, большую или маленькую, можно решить. Но в нашей ситуации, судя по тому, что выхода не видно, начинает казаться, что ты все-таки не любишь меня. И в то же время я прекрасно помню, как ты, Ван, любил меня. А теперь ты приходишь и отрицаешь, что любил меня, слишком жестоко… Ну, скажи же, ты любишь меня?»
«Порой ты, Ынсо, кажешься мне тяжелой ношей, которую хочется скорее сбросить, потому что, когда позволяю тебе быть рядом, я держу рядом с собой нашу деревню Исырочжи. Когда смотрю на тебя, чувствую себя так, как будто сел в современный сверкающий чистотой лифт, а на ногах у меня запачканные коричневой глиной ботинки. Надо бы почистить их и натереть до блеска, а ты, Ынсо, не даешь сделать этого. И все же…»
«Неужели вина в том, что моя душа так стремится к тебе? Неужели я виновата в том, что призналась в любви? После этого чувствую, что ты как будто похоронил меня где-то подальше от себя. Как будто я стала пустым местом для тебя. И все равно, если не будет даже такого тебя, я не знаю, что случится со мной».
Ван не говорил ни слова. Он прекрасно понимал, что его молчание тревожит Ынсо, и все же продолжал молчать:
«А что надо говорить? Ты – это мое детство. Кто может жить без детства? Я такой, потому что ты есть на этом свете. Все время куда-то бегу сломя голову, кажется, что если еще пожить в таком темпе, то упаду, и тут в памяти возникает твое лицо, дарующее мне силы. Если это все рассказать тебе, разве ты сможешь понять меня?»
Душа ее кричала: «Ну, скажи же ему, хоть заикнись!» – но, видя равнодушие Вана, промолчала.
«Ну, скажи же, – опять вторила она. – Но вдруг Ван скажет, что и вправду не любит меня», – никак не решалась заговорить Ынсо, как вдруг Ван сказал:
– Неужели я тебя так сильно мучаю?
Молчание.
– Что тебя так мучает?
– А ты сходи в обувную лавку и спроси, продают ли они ботинки. А потом сходи в парикмахерскую и спроси, подстригают ли они?
– Что ты такое говоришь?!
Ынсо потухшим взглядом пыталась в темноте разглядеть темную башню Чхомсондэ – большого черного зверя: «Неужели ты не понимаешь, что без тебя все абсолютно пусто и бессмысленно, что у меня только одно желание: быть с тобой рядом?! Потому что, кроме твоих звонков и твоих приездов ко мне, нет больше ничего, что было бы для меня важным!»
– Каждый раз, когда ты отталкиваешь меня, мне становится трудно даже разговаривать с людьми. Я слышу голоса, но что именно хотели мне сказать, не могу понять. Все время какая-то рассеянность. Если так будет продолжаться и дальше, кажется, я не смогу больше ничем заниматься. Слушаю ли музыку, перехожу ли дорогу на светофоре, стираю ли… Кажется, я все перезабыла, как надо это делать. Да, пусть так. Но если ты будешь и дальше так обращаться со мной, то в один прекрасный день я забуду и как ездить на поезде, и как ходить в магазин – просто потеряю себя.
«Неужели эта женщина так сильно любит меня?» – удивился Ван и растерянно посмотрел на небо.
С виду казавшаяся спокойной – Ван это прекрасно знал, – она укрылась в труднодоступном месте души, известном только ей одной, которое никто не может потревожить. В какой-то момент ему показалось, что ее душа так похолодела, что от нее отскакивают осколки льда: «И все же, неужели она так любит? Если она скажет, что хочет выйти за меня замуж, что сказать в ответ?»
После того как в кромешной ночной тьме, вслед за матерью, пришлось бежать из Исырочжи, письма для Ынсо, отправленные Ваном из города, получал ее отец и прятал от нее. И вот однажды все эти письма, спрятанные когда-то отцом, мать Ынсо достала и как есть отдала дочери. А когда отдавала, сказала:
«Тот, кто получил много ран, мстит тому, кто находится непосредственно рядом с ним, – а потом еще добавила: – Хватит уже писать письма».
Когда Ван узнал об этом от Ынсо, то удивился, что это сказал не отец, а ее мать. Ван хорошо помнил мать Ынсо. Это была женщина, которую время от времени бил муж; он начал ее бить после того, как она ушла из дому, а потом вернулась.
Это была женщина, которую даже Ынсо не называла матерью, хотя бы и невзначай. Именно поэтому Вану показалось странным и он был удивлен, что эти слова сказал не кто иной, а эта женщина. После этого он решил писать письма не на домашний адрес Ынсо, а ее знакомой. Даже переписка доставалась им с такими трудностями. Неужели и теперь Ынсо скажет, что хочет выйти за него замуж?
Душа Вана похолодела: «Не хочу, чтобы мое имя, в какой бы то ни было ситуации, жители Исырочжи произносили с оскорблением, хотя бы даже устами матери Ынсо». Раздумывая то над одним, то над другим, Ван начал раздражаться и быстро закрыл глаза.
Казалось, Ван только и делал, что лежал на траве, но через некоторое время неожиданно взял Ынсо за руку.
– Что мне нужно сделать для тебя?
Молчание.
– Ты мне скажи. Что мне нужно сделать, чтобы тебе было хорошо?
Молчание.
– Опять будешь молчать?
– Если сказал, что будешь звонить, звони.
– Что?
В темноте Ынсо повернула голову к Вану. Он не знал, что ответить, и усмехнулся:
«Всего лишь и надо-то позвонить?»
– Сказал, что позвонишь, а сам не звонишь, время идет, и мне так тяжело ждать твоего звонка, что кажется, что я вот-вот умру. Понимаешь ли ты это? А я-то проверяю, вдруг неправильно положила трубку, поднимаю и снова кладу ее, боюсь, что не услышу твоего звонка, и не делаю ничего, что бы могло его заглушить.
Думаешь, только один раз тебя так ждала? Однажды, пока ждала звонка – только одного-единственного звонка, – услышала, как работает холодильник, и тогда выдернула провод холодильника из розетки. Пока жду тебя, не могу делать ничего другого.
А когда раздавался телефонный звонок, но это был не ты, рушились все мои надежды, до такой степени, что мне хотелось презирать того, кто в тот момент позвонил мне.
– Ынсо!
– Да, я стала такой. – И подумала: «Я стала такой. Из-за тебя хочу умереть, из-за тебя мне не хочется жить. – Ынсо прикусила губу. – Если ты скажешь, что позвонишь через пару дней, я уже с того момента ничего не могу делать, потому что жду твоего звонка. А все остальное только раздражает меня.
Ты даже не обещал со мной встретиться, только всего лишь и сказал, что позвонишь, а я начинаю думать, что бы мне надеть, не подстричься ли мне, не подровнять ли ногти, так и провожу время в этой суете.
Кое-что даже произошло со мной однажды. Как-то я шла по улице и увидела наклеенную на стене афишу. Там было написано:
″Любовь – это когда не жалеют времени друг для друга″.
Я сразу же вспомнила о тебе. Ведь с какого-то момента ты перестал уделять мне время. И, стоя перед этой хорошо приклеенной клеем афишей, поняла, что ты меня не любишь. Тогда все и рухнуло в моей жизни – это по сей день продолжается. Да, я стала такой».
Чувства – страшная вещь, слишком уж они мучительны.
Ынсо до боли сжала пальцы рук. Иногда задумывалась, а не получает ли она наслаждение от своего такого мучительного положения? Когда смотрела журналы и видела там стройные ноги иностранных моделей, она смотрела на них глазами Вана. Кроме того, и когда смотрела телевизор – ведь где-то сейчас он тоже смотрит на эту модель, и какие мысли возникают у него в этот момент? Как только ловила себя за этими мыслями, и журналы, и телевизор становились мучением.
«Да, я стала такой. – Ынсо посмотрела на мерцающие над ней звезды. – И вот с такой истерзанной душой, знаешь, что произошло дальше?
Однажды, совершенно случайно, когда я увидела свои глаза в зеркале, я вспомнила, как ты раньше сосчитал мои ресницы и сказал: ″Сорок две!″
Каждый раз, вспоминая это, всего лишь от одной этой мысли мне кажется, что я обрела весь мир, и я жила этим. Если уж ты сосчитал ресницы, то ты, без сомнения, любишь меня. Я боялась, что в мое отсутствие ты можешь позвонить, и я уходила от друзей, не посидев с ними и часа, даже выходила из кинотеатра на середине фильма».
– Не понимаю, зачем ты хочешь сломать свою жизнь? – произнес Ван.
Ынсо, недоумевая, посмотрела на Вана: «Что это он такое говорит?»
– Я не сломать хочу, а найти.
– Я не могу стать таким, каким ты придумала меня, и быть достойным твоей заботы.
Молчание.
– Помнишь, ты мне рассказывала о ночном полете?
Молчание.
– Ты рассказала, что когда-то ночью один самолет упал в пустыне. И пилоту, потерпевшему крушение, пришлось ночевать в самом сердце пустыни. Рев шакалов. Холод. Небо ли это или песок, песок ли это или небо, было не различить. И в этом безнадежном положении – в той холодной ночной пустыне – пилота спасло воспоминание о детстве. Ты мне сама об этом рассказывала.