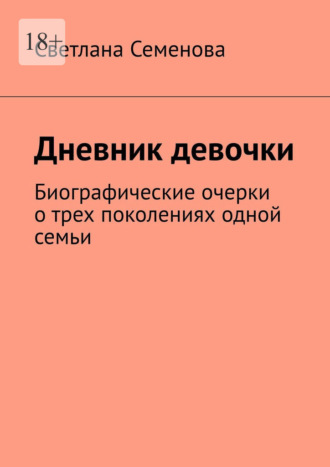
Полная версия
Дневник девочки. Биографические очерки о трех поколениях одной семьи
– Если будешь уметь, то в школе будешь лоботрясничать.
У Иры белая кожа, светлые волосы, а ресницы и брови тёмные; при случае она гордо поясняет:
– Мой папа – украинец, а мама – русская.
Зимой она носит светлую кроличью шапку и тоже светлые мягкие валенки-самокатки. Говорит, что такие катают в их украинской деревне, недалеко от Уфы. Они быстро протираются, поэтому их носят с черными галошами. Мне покупают в магазине обычные черные валенки – ноские, но грубые и неудобные.
Ире к школьной форме ее мама связала крючком воротничок из белых хлопковых ниток и сшила фартук из чёрного сатина с широкими крылышками и завязкой сзади в виде широкого банта. А у меня – покупной из чёрной полушерсти и без крылышек.
В то время я подружилась с соседками по подъезду Гузелью Гумеровой и Таней Никитиной, а в музыкальной школе – с Волковой Тамарой.
Все девочки одинаково хорошие, но всем вместе дружить почему-то не получается. С каждой дружим по-разному. Например, с Ирой мы по выходным бегаем на каток, в кино и ищем весёлые приключения. С этого года она учится в художественной школе-интернате, бывает дома только на выходных.
В третьем классе во второй четверти 1969 года учитель ритмики отобрал из класса семь девочек, куда попали Ира Гуртовенко и я. Разучил с нами красивый башкирский народный танец «Семь девушек» под аккордеон, играл сам.
– Света, ты делаешь это движение руками, будто показываешь, как едет паровозик, а нужно плавнее опускать руки, – учили меня девочки.
В башкирских костюмах мы выступали на концертах в школе и во Дворце Культуры. Ой! Как было страшно первый раз выходить на сцену! Как говорит Гуртовенко, вся перепаратилась. Сначала за кулисами от страха похолодели кончики моих пальцев, а на сцене от ярких прожекторов стало так жарко, что раскраснелось лицо, выступил пот.
После третьей четверти учитель ритмики уехал куда-то, уроки танцев прекратились.
С улыбчивой Тамарой Волковой с ямочками на щеках мы виделись только в музыкальной школе №10, а после занятий она всегда спешила домой делать уроки – круглая отличница. У нас были одинаковые учителя: по специальности «фоно» – сначала Сайкин, потом – Людмила Федоровна Кузнецова, по сольфеджио – Фарида Григорьевна Габитова, по хору – Ефремова Людмила Ивановна. Я учусь музыке неважно и без желания, а Тамара в прошлом году перешла в школу для музыкально одарённых детей.
Хор нашей музыкальной школы ездил на городские конкурсы во Дворец машиностроителей, Дворец Орджоникидзе; пели песни: «Со вьюном я хожу», «Красная гвоздика»:
Припев:
Красная гвоздика – спутница тревог,
Красная гвоздика – наш цветок.
Пели песню «Ленин всегда с тобой»:
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
Таня Никитина дружила с нами только под присмотром родителей. Она старше на год. Однажды она предложила мне:
– Давай, играть в мечту – придумывать про то, как бы мы жили, если бы были взрослыми, какая у каждой была б семья, дома, вещи, мебель, одежда. Подготовься, завтра расскажем друг дружке.
На следующий день она спрашивает:
– Знаешь, где будет стоять мой дом?
– На улице, – отвечаю я, удивляясь вопросу.
А Таня таинственным голосом произносит:
– Далеко-далеко в лесу…
Посмотрела на меня, прищуривается и показывает свой рисунок, где среди деревьев стоит дом с окнами и дверью.
– Ух, ты! Как здорово! – восхищаюсь я. – Тоже буду жить там!
Почти каждый день мы рассказывали друг дружке новые выдумки про «Далеко-далеко в лесу», собирали всякие вещички, которые пригодятся в вымышленных «лесных домах», только рисовать мне было лень. У Тани вообще всё получалось лучше, а я удивлялась, что не могу так же здорово фантазировать.
Танина мама, Берта Альбертовна, порой нам подсказывала, чтобы было интереснее. Она всегда вежливо со всеми разговаривает, работает в поликлинике, а её муж Евгений Иванович – учителем труда в школе, человек спокойный, в отличие от моего непоседливого папы. Таня вся в своего папу – не болтушка и домоседка.
Моя мама дома ходит в простых тапочках, широком халате, часто с бигудями на голове, а стройная Берта Альбертовна – всегда в хорошей одежде, с аккуратной стрижкой и в красивых очках. У Тани тоже хорошая стрижка, но с длинной чёлкой и светлее волосы.
Мама моя часто повторяет:
– Подружки-то самостоятельнее тебя и вообще поумнее, время зря не прожигают во дворе с ребятами.
Ха! Ира Гуртовенко самостоятельнее потому, что ее учат жизни старшие сестры Люба и Таня, они школьницы, а Гузель потому, что до третьего класса прожила в детском санатории из-за слабого здоровья и возвращалась домой только на выходные.
25 сентября 1971 года
Суббота
+14°С
Сегодня мы ходили в новый кинотеатр «Искра» на широкоформатный фильм «Гойя, или Тяжкий путь познания»; играют иностранные актёры и наши: Банионис, Чурсина, Шенгелая, Васильев. Фильм сделали четыре страны: СССР, ГДР, Болгария, Югославия. Что-то в нем я поняла, что-то не поняла; фильм красивый, о знаменитом испанском художнике, о борьбе испанцев за освобождение от Франции.
После школьных уроков и музыкалки нет времени смотреть телик, да и мало, что интересного было в сентябре, кроме следующих телепрограмм:
21 сентября в 21.30 – концерт народного артиста СССР С. Лемешева; в пятницу 24 сентября – телефильм о французском миме Марселе Марсо; худфильм «Встречи с Игорем Ильинским». По-моему, комика Игоря Ильинского не любить нельзя, похож на Чарли Чаплина.
Часто показывают телепрограммы, которые я не понимаю, потому что ещё маленькая: Сельский час, Труженики села, Шаги пятилетний, Ленинский университет миллионов, Пионерград, Костёр, Пионерия на марше.
Зато не пропускаю программы: Музыкальный киоск с ведущей Элеонорой Беляевой, Ребятам о зверятах, В мире животных, Клуб путешественников с ведущим Шнейдеровым, мультфильмы.
«ЗАПАДНИЦЫ»: Вера, Надежда, Любовь и София. 1910-30-е гг.
30 сентября 1971 года Четверг. – Зачем таскает тяжести? Наверно, килограммов десять яблок. Присылала же их нам в августе, зачем опять? – говорит мама недовольно, прочитав извещение о посылке из Курска от папиной мамы Евгении Осиповны.
– В Курске яблоки лучше наших, да и таким образом хочет помянуть своих сестёр АлександрОвых (ударение на букву «о»). Старшей Вере исполнилось бы 85, – защищает папа свою маму.
– Пап, какая была Вера? Что ты знаешь? Где жила? – спрашиваю я без особой надежды получить ответ.
О своей семье бабушка и папа говорят мало, а мне интересна любая мелочь.
Знаю, что все Александровы и папа, как говорит моя мама, одной породы: тёмные широкие брови, длинные ресницы, серые глаза, удлиненное лицо, маленький подбородок, густые темно-русые волосы и узкие запястья.
В Курске я видела в фотоальбоме фотографию молодой красивой Веры в белой кофте с воротничком-стоечкой, окантованной тонкими кружевами. На другом портрете она стоит в тёмном длинном платье с тонкой-тонкой талией. Есть снимок, где стройная Вера в длинном темных пальто и шляпке с большим пером, рядом – статный муж Полячков с гусарскими усами, одет в форму казначейства: фуражка со значком, пальто с петлицами. Эх! Как красиво одевались – не то, что сейчас.
Папа рассказал про четырёх сестёр своей мамы, получился целый роман.
Вера
Папин рассказ
Я помню с трёхлетнего моего возраста родную тётю Веру Осиповну, тогда, в 1927 году, было ей лет сорок. Жила она в восьмиметровой комнате на первом этаже коммунального многоквартирного дома №10 по улице Мирной, в Курске. Мы занимали сорокаметровую комнату на втором этаже. С тех пор прошло почти 50 лет.
Тетя Вера сама себя называла повитухой или акушеркой в отставке. Есть такая присказка: «Бабка повивальная – всем родня дальняя». В 1910 году в 25 лет она имела свою акушерскую практику в уездном городе Бельске под Белостоком в Западной Белоруссии. Ее даже звали «бабушкой Верой», потому что в старину молодых повитух не было – незамужних и бездетных к такому занятию не допускали. Во времена молодости тёти Веры становиться повитухами незамужним разрешили, хотя по привычке называли их «бабушками». Потом Вера вышла замуж, перестала работать акушеркой, но по-прежнему получала открытки от деток, которые продолжали называть её бабушкой. Советская власть повивальных бабок отменила, заставила рожать в роддомах.
В комнате тети Веры на Мирной улице присесть-то было не на что. Стол и кровать только и были настоящими, а пуфики и тумбочки – это картонные коробки для шляп, забитые несезонной одеждой. Вся эта, якобы, мебель была покрыта салфетками из ручных кружев и мережки. Словом, маленькое жилище напоминало мне кукольный домик.
Тетя Вера часто вспоминала прежнюю жизнь.
Рассказ тёти Веры
Мы жили в городе Бельске Гродненской губернии. В нашем доме было 9 детей: 3 мальчика и 6 девочек, еды хватало всем. На Пасху готовили «пасху» из творога и сотни яичных желтков, запекали окорок, буженину, с орехами, изюмом пекли польское печенье «Мазурки» и делали другие лакомства. Наш батюшка, Осип Николаевич Александров как ребенок играл с нами, водил хоровод вокруг елки, в саду катался на качелях. А мама всегда строгая. Он был присяжным поверенным в уезде. Болел, умер перед империалистической войной. Младшая моя сестра Надежда первая вышла замуж за священника, первая родила двух девочек: в 1905 году – Иру и в 1906-ом – Люду. Сейчас они живут в Воронеже, стали мамами, почти ровесницы нашей младшей сестры Сони. С 1905 по 1930 я девять раз стала тетей. Всем малышкам сшила по новому костюмчику. Всегда нравилась мне не выходящая из моды классическая матроска. Для девочек мастерила из легкой белой ткани воздушные летние платьица. На фотографиях мои голубочки как ангелочки! Всевышний не дал мне стать матерью. В 1911 году в Бельске я вышла замуж за Семена Георгиевича Полячкова, служил он бухгалтером сначала в Уездном казначействе в Бельске, а с 1912 года – в Губернском казначействе Гродно. По чину, нам полагалось обращение «Ваше высокоблагородие». В трудную минуту, когда семья потеряла отца-кормильца, Осипа Николаевича, ангелом-хранителем нашим стал Семён Георгиевич, имел сбережения в банке. Тещу, Анну Осиповну Александрову, маленьких своячениц, Женю и Соню, взял в свой дом в Гродно. Девочкам оплатил учебу в гимназии. Казалось, жизнь без отца, под крылышком ангела нашего, Семена, стала налаживаться, но в 1914-м началась война. Наш спаситель разорился, «сгорели» русские капиталы на занятой германцами территории. Мы оказалась без средств, только жалование Семы.
В войну все жили плохо, многие люди голодали. Когда казаки в котле варили кашу с маслом, салом, то бедные дети собирались рядом, ожидая подачки. Племянник мужа служил в армии. Семен, как государственный чиновник, давал присягу на верность царю, поэтому в 1915-м по приказу эвакуировался с казначейством из Гродно. Мы с мамой и сёстрами последовали за ним, за отступавшей армией. Когда прибыли в Россию, пятнадцатилетнюю сестру Женю-Женюрку определили в Орле в учительскую семинарию. Мама Анна Осиповна с маленькой десятилетней Соней поселилась в Коренной Пустыни (сейчас поселок Свобода) под Курском. Туда из села Парцево, которое рядом с нашим родным Бельском, приехали 25-летнняя сестра Люба с мужем Антоном Васильевичем Сорокиным и их годовалым сыном Колей, потом приехала в Коренную и сестра Антона – вдова Маша с дочкой Зиной и сыном Колей Жухневич. Я и Сема сняли в Курске квартирку на Верхне-Гостиной №40. Служить его определили чином ниже, чем в Гродно. Мои братья Александровы Сережа и Антон были на фронте. Антон до войны прислал фотокарточку в офицерской форме. Как красиво он поёт романсы:
«Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума…»
Старший мой брат Владимир Александров связался с оппортунистами, до революции подрался с полицейским и сбежал заграницу с невестой – дочкой лесопромышленника, вестей нет. Мой Сема не был доволен своим новым положением в Курске, переживал, болел. Началась революция в Петрограде. Я с мужем поехала в его родную Оршу. Служила там сестрой милосердия в госпитале. В 1921 на 50 году жизни Сема скончался от болезни печени. Я стала вдовой в 35 лет. В это время в Коренной пустыни заболели тифом наша мама Анна Осиповна и сестра Женя-Женюрка, мама умерла. Да, судьба распорядился так, чтобы из всех детей только Люба и Соня проводили её в последний путь. Потом я вернулась из Орши в Курск к моим осиротевшим сестренкам: крестнице Жене-Женюрке двадцати лет и Соне шестнадцати лет.
Продолжение папиного рассказа
В Курске было много беженцев из Белоруссии. Их и нашу семью стали называть «западниками».
К тете Вере часто приходила вдова тётя Лена, старше моей бабушки Анны Осиповны, но с одинаковой девичьей фамилией Мартишевская. Я так и не понял – тетя Лена была то ли сестрой, то ли тетей моей бабушки, Анны Осиповны. Тетя Лена тоже бежала из Гродно, её муж был полицмейстером, фамилия, вроде, Дынга, Демша или похожая. Она жила в доме престарелых, называли «Инвалидным домом», в пригороде Курска. Тетя Вера и моя мама недолюбливали ворчливую тётю Лену. Хотя старушка всегда помогала им стряпать. Она порой шлепала нас, детей, если спешили пробовать ее стряпню, приговаривая: «Не лезь без спроса!» Ей в 1930-х годах было около 80 лет: худощавая, среднего роста, темная длинная, до пола, косу, закрученная на затылке. Выглядела барыней и часто носила белое, например, летнее пальто из чесучи, длинный широкий шелковый шарф.
– Тетя Лена, какая аккуратная ваша светлая одежда, – хвалила ее тетя Вера.
– Чтобы ткань долго сохраняла вид, всегда стираю в холодной воде, – отвечала она.
Я слышал, как зачем-то тётя Лена приговаривала:
– Я-то вышла замуж за дворянина!
То ли так попрекала, стыдила, тётю Веру, всех сестёр Александровых, их покойную мать Анну? То ли просто так бурчала? Ишь! Барыня какая! Никак не могла забыть свою барскую жизнь.
Я читал про родной край моих предков Александровых, который потеряли – он на землях древней Белой Руси. За него боролись веками Литва и Польша, после войны 1812 года край вернулся к России. До 1915-го край состоял из двух уездов Белостокского и Бельского Гродненской губернии. В 1845 году их присоединили к Белоруссии. Тогда в Белостоке царь поставил таможню, понаехали торговцы, фабриканты. Город расцветал, по числу жителей – почти как в Курске, тысяч шестьдесят. После Первой Мировой эта земля перешла Польше, называется теперь Подляшьем. А Гродно вернулся в Россию в 1939 году.
Сначала в нашем доме тетя Вера жила одиноко, шила и слушала пение канарейки. В конце 30-х забрала к себе больную сестру Соню с её детьми Ритой и Евгением. Тетя Вера следила за речью племянников, старалась исправлять дикцию, чтобы не привыкли к курскому твердому произношению буквы «г». Правда, у нее самой был лёгкий польский акцент. Соседка Чернова, коммунистка, занимавшая какую-то должность, спросила однажды тётю Веру:
– Вы – полячка, пани Полячкова?
– Какая полячка! Я – русская. Акцент мой! Просто вокруг говорили по-польски, и в гимназиях преподавали польский язык наравне с русским.
Вера целыми днями сидела за ручной швейной машинкой «Зингер», выполняла заказы по пошиву женского белья, мужских сорочек и пр., умела делать сложные выкройки, декоративную отделку, кружева. Однажды шила на заказ белые халаты для медиков. Таких мастериц называли белошвейками. В конце 1930 годов эта надомная работа стала нелегальной, поэтому с клиентами тетя встречалась в «безопасных» местах. Рулоны материи всегда прятала от финансового инспектора, которого называла «фином». Если тетя Вера приступала к выкройке очередного заказа, то произносила с иронией:
– Посмотрите, не идет ли «фин»!?
У тети Веры в её маленькой комнате на Мирной-10 всегда были гости. Они с удовольствием соглашались ночевать даже на полу. Некоторое время у нее жила монахиня из какого-то ликвидированного монастыря, таких было в стране много. Например, закрыли монастырь в центре Курска и открыли в нем кинотеатр «Октябрь».
Надежда Тетю Надю – вторую по старшинству сестру Александровых – я видел только на фото. Моя мама рассказывала про неё мало; у неё были две дочери Ира и Люда. Старшая Ира с двумя дочерями и мужем жила в Воронеже. Я не помню ее фамилию по отцу, а по мужу, кажется, Зайцева. Моя мама показывала их фотоснимок 1930-х годов. Я удивился, что Ира совсем не похожа на Александровых: лицо круглое, губы полные. Две её девочки пяти и семи лет тоже не в нашу породу.
Однажды в 30-х годах тетю Веру приехал проведать представительный муж Иры. В его присутствии семилетняя Рита Слащева – дочка моей тети Софьи Осиповны – занималась своей куклой: и кормила, и переодевала, и качала. А он подтрунивал:
– Рита, ты такая большая, а играешь в куклы. Моим маленьким дочкам – твоим кузинам – игрушки уже не интересны.
Вызвал переполох приезд Людмилы – младшей дочери Надежды Осиповны. Люда работала в Таджикистане цирковой акробаткой, наездницей. Курским теткам не понравилось, что она носит брюки, курит и слишком громко хохочет, разговаривает. Особенно недовольной была тетя Лена, возмущалась:
– Что за манеры, что за вульгарность?! Что за костюм! Женщина не должна носить штаны!
Любовь
Папин рассказ
В селе Парцево под городом Бельском Бельского уезда в 1912 году Любовь Осиповна Александрова, пятый ребёнок в семье, вышла замуж за учителя Антона Васильевича Сорокина (Сорока), из крестьянской семьи. Он был учителем в сельской школе, а она там – учителем кройки и шитья.
В 1915 году по распоряжению властей они с сынишкой Колей эвакуировались в Россию и продолжали преподавать в Курском крае в Коренной Пустыни, сейчас поселок Свобода. После революции Антон Васильевич стал директором сельской школы в Карасевке Бесединского района Курской области. Любовь Осиповна преподавала там в младших классах, заведовала небольшой библиотекой и помогала по хозяйственной части, так как, по словам моей мамы Евгении Осиповны, была практичной и умела договариваться с людьми.
По словам моей сестры Лидии, Любовь Осиповна не была врачом, но умела лечить, якобы, готовила лекарства из трав. Некоторые лекарства привозила из городских аптек. Люди к ней приходили за лечением.
В школьном дворе стоял большой дом с тремя большими комнатами, который принадлежал школе. В нем жили Сорокины. Работы было много в личном хозяйстве. Тогда учителя держали огород, птицу и скотину.
Антон Васильевич был заядлым охотником на рябчиков и очень гостеприимным человеком, летом приветливо принимал всю курскую родню. Во время таких поездок я любил просматривать их толстые подшивки дореволюционного журнала «Нива», которых насчитывалось 15 штук.
Я и Лида дружили с их сыном Женей и дочкой Людой-Люсей – почти нашими ровесниками. Женя так пел, что в доме лопались лампочки! На деревенских посиделках он играл на гармони и пел частушки, но только почему-то слишком боялся грозы. Люсю-Людмилу все считали очень красивой: похожа на тётю Веру, прям, одно лицо. Я много слышал об их старшем брате Коле, но так и не довелось застать его в Карасёвке, чтобы познакомиться.
До войны Коля окончил техникум, потом с отличием первый курс в университете в Воронеже, а Люся-Людмила – Курский пединститут. В 1941 году Коля ушёл на фронт, где вступил в Партию. После войны преподавал во Владимирской области, защитил кандидатскую диссертацию по педагогике, перешел в Тульский государственный педагогический институт.
В 1937 году мы думали, что его отца, Антона Васильевича Сорокина, представят к награде за 30-летнюю работу учителем, а вместо этого арестовали как врага народа. Коля его навещал в Курской тюрьме. Отец попросил принести новые очки, так как старые разбились. Через месяца два кто-то из знакомых, то ли бывший ученик, который был в это время в этой тюрьме, сказал брату Антона Васильевича, Игнату, что Антон умер в тюрьме. Тот передал жене, Любови Осиповне. Она не хотела верить в смерть мужа, так как ещё в 1937 году ей в тюрьме сообщили, что муж сослан без права переписки. Она оплакивала мужа и вспоминала, как на венчании загорелась её фата. А теперь люди стали говорить, что рыданием она отмолила все грехи венчаного супруга. Официальный письменный ответ в соответствующих органах дали только в 1960-х: поскольку Антон Васильевич реабилитирован посмертно, то семье полагается денежная компенсация. Самая младшая его, шестая, внучка Женя уже закончила школу в пригороде Твери, а правнучка Мила-Людмила, учится в младшем классе в Туле.
Сейчас моей маме, Евгении Осиповне, 70 лет, ее сестре Любе – 75. Задолго до войны у них возникли серьёзные разногласия, поэтому общались мало. Я слышал, как тётя Вера приговаривала, когда среди детей случался спор:
– Ну вот! Разругались, как сестры Александровы.
После войны мама и тётя Люба узнают новости друг о друге от сестры покойного Антона Васильевича Сорокина, Марии Васильевны, которая вышла замуж за Медведева Ивана все в том же поселке Свобода под Курском. Её дочь Зинаида Петровна Жухневич, а по мужу Сапожкова, работает учительницей в этом поселке.
Как-то раз я встретил её. Мы помянули гостеприимного ее родного дядю, Антона Васильевича. Она назвала его настоящим сельским интеллигентом.
София
Папин рассказ
Когда в 1904 году в Бельске Анна Осиповна Александрова родила двойняшек Лизу и Соню, ее старшей дочери Вере Осиповне было 19 лет, моей маме, Евгении Осиповне – 4 года. Когда Вера гуляла с двойняшками, все думали, что это ее дочки. Через 8 лет Лиза умерла от менингита, Соня тоже переболела им, и в 30 лет болезнь дала о себе знать. Соня с мужем Антоном Васильевичем Слащевым жила в Брянске, работала секретарем. Он был сотрудником НКВД, ворошиловским стрелком, героем Революции и Гражданской войны. За мужем она не поехала, когда за пьянство его отправили служить охранником куда-то в Сибирь. В 1937 году Соня попала на длительное лечение в больницу. Четырехлетнего сына Женю Слащева забрали в детский приют. Чтобы шестилетняя дочь Рита не попала в детдом, старшая сестра Вера увезла ее в Курск. Через какое-то время туда приехали и Соня с сыном. Соня упрекала сестру Веру, что та не сохранила комнату в Брянске. Курские власти не спешили давать жилье детям героя Революции, поэтому на восьми квадратных метрах так и жили вчетвером до самой войны.
Соня была очень привлекательной женщиной, хорошо пела романсы, играла на гитаре. Однажды она дала почитать свои стихи сестре Вере, понравились.
Рита была смышленой, хорошо училась в школе, только по поведению учителя ставили ей неудовлетворительные отметки. Тетя Вера делала замечания очень деликатно. Рита не знала такой любви от своей мамы Сони – вечно раздраженной, крикливой, вспыльчивой, резкой и рассеянной. Бывало, что Соня за малейшую провинность могла ее обидеть. Тетя Вера учила Риту штопать одежду, вязать крючком кружева и строчить на машинке. Девочка быстро освоила рукоделие, мастерила кукле наряды, но все-таки предпочитала книжки читать. Ей нравилось рассматривать картинки на почтовых открытках, которых у тети Веры скопилось на целый ящик. Там были и иностранные открытки.
В школе Рита была и октябренком, и пионеркой. Все равно тетя Вера тайно водила в церковь её и братика Евгения, крестила их, учила молитвам. Тогда в Курске была открыта только одна церковь на Никитском кладбище.
О СЛОЖНОМ
5 октября 1971 года
Вторник
Сегодня День учителя. Фи! Опять в нашей квартире цветы. Хорошо, что они в октябре подорожали, поэтому надарили маме не так много. Цветы мне надоели давно: мама заставляет ими все подоконники зимой и летом – балкон.
С детства я бегала за ней, как хвостик: и, когда она готовила выставки от школы для городского конкурса на ежегодном Дне Цветов, и на первый в нашей республике городской праздник для школьников «Птицы – наши друзья». Мама сама организовала этот праздник как активистка городского Общества охраны природы, и часто получает почётные грамоты. Об этом потом расскажу.
Хорошо ли быть ребёнком учителя? Думаю, не всегда.
1965 год, мне 5 лет, ранний вечер, тепло, во дворе людей немного. Мама разрешает вынести из дома новую куклу, чтобы показать подружкам, сама следит из окна. У подъезда меня окружают дети.
Кукла походит на годовалую девочку: закрывает глазки с ресничками, «мамкает». У неё всё сделано под малыша: нарисованы на головке волосики, бровки, губки. Туловище – из бледно-розовой ткани, такие же ножки, ручки болтаются; кисти и пальчики с ноготками – из тонкой пластмассы. На головке чепчик с кружавчиками, распашонка – из тонкой ткани, фланелевые ползунки, кожаные пинетки на шнуровке. Дети восхищаются, устанавливают очередь, чтобы понянчить пупса.



