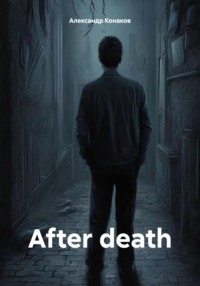Полная версия
Дьявольские угодья
Лицо, все еще уткнутое в землю, тоже менялось. Череп деформировался, вытягиваясь вперед в звериную морду. Слышался звук ломающихся зубов и отрастающих новых – длинных, желтых клыков. Уши, оттопыренные и заостренные, поднялись на макушке, покрываясь той же темной, слипшейся шерстью. Из разорванной спины вырос горб мускулов и костей. Хребет удлинился, стал гибким, змеиным. Хвост? Да, черный, голый, как у крысы, хлыст хвоста выскользнул из кровавого месива подол рубахи и судорожно забился по земле.
Стон превратился в хриплый, клокочущий рык, потом в протяжный, леденящий душу вой. Не волчий. Не собачий. Нечеловеческий. Звук глубокой, древней ненависти и голода. Существо подняло голову. То, что было лицом, теперь представляло собой помесь волка, кабана и чего-то невообразимо чужого. Маленькие, глубоко посаженные глазки горели тусклым желто-зеленым огнем безумия. Морда, утыканная клыками, была залита слюной и кровью из порвавшейся пасти. Оно тряхнуло огромной, покрытой клочьями шерсти и лоскутьями кожи головой, сбрасывая остатки человеческой одежды. Спина еще дымилась в лунном свете, из ран сочилась черная жижа.
Оно повернуло эту чудовищную голову. Желтые глаза нашли Гюрзу. В них не было ничего человеческого. Только первобытный, неутолимый голод. И ярость. Зубы обнажились в немом рыке, капая слюной и кровью на землю. Лапы с когтями, впившимися в грунт, напряглись для прыжка.
Гюрза застыла. Весь ее цинизм, вся привычная агрессия сжались в ледяной комок ужаса в груди. Это был не человек. Это был кошмар из самых темных сказок, оживший прямо перед ней. Она инстинктивно шагнула назад, чувствуя, как подкашиваются ноги. Единственное оружие – тяжелый камень, который она подобрала у забора. Он внезапно показался смехотворно легким против этой твари. Тварь стояло на четвереньках выгнув спину, готовясь к броску. Глубокая, хриплая гарь вырвалась из ее пасти.
***
Кирилл ворвался в кузницу, спотыкаясь о порог. Запах ударил в ноздри – не просто железа и угля, а сладковато-гнилостный, как у открытого склепа в жаркий день, с едкой нотой медной окалины и… свежей крови. Его сердце, и без того колотившееся как бешеное, сжалось в ледяной комок.
«Таня!»
Ответом был не крик, а… стон. Низкий, протяжный, полный такой нечеловеческой муки, что по спине Кирилла пробежали ледяные мурашки. И смех. Сухой, надтреснутый, перебивающий стон – как будто кто-то ломал кости и хохотал над хрустом.
Он рванулся вглубь, к тому месту, где когда-то пылал горн. Теперь там зияла черная яма, похожая на воронку от падения звезды. Но не она привлекла его взгляд.
На плоском черном камне, лежащем посреди кузницы там, где раньше стояла наковальня, сидела Таня.
Сидела – не то слово. Она корчилась.
Ее синяя домотканая рубаха была разорвана в клочья. Бледная кожа под ней была испещрена длинными, глубокими царапинами – не от ножа, а от собственных ногтей. Они впивались в плоть предплечий, груди, шеи, рвали кожу, как пергамент, оставляя кровавые дорожки, стекавшие на холодный камень. Капли падали с тихим, мерзким плюхом, сливаясь в темные лужицы. Ее волосы, всегда аккуратно заплетенные, были растрепаны, в них впились клочья соломы и запекшаяся кровь.
– Таня! Боже милостивый! – Кирилл рванулся к ней, забыв про страх, про все. – Что с тобой?!
Она подняла лицо. Кирилл отшатнулся. Ее глаза… Они были ее глазами – серыми, большими. Но в них не было ни разума, ни любви. Только первобытный, животный ужас и безумие, пляшущее в глубине зрачков, как черное пламя. В них отражался не он, а что-то иное – темное, давящее, что исходило от самого камня.
– Не… могу… – прохрипела она, голос сорвался на визг. – Горит! В голове… ГОРИТ! Они… они внутри! – Ее рука снова взметнулась, длинные ногти – острые, как когти хищницы, впились в кожу щеки, рванули вниз. Из свежей раны хлынула кровь, заливая подбородок и шею. Она застонала, но не от боли – от какого-то извращенного, жуткого облегчения. – Так… тише… тише… – простонала она, и снова – этот сумасшедший, надломленный смешок.
Кирилл бросился к ней, схватил за запястья. Кожа была ледяной, как у мертвеца. Он попытался оторвать ее руки от лица, но ее сила была нечеловеческой. Мускулы напряглись под его пальцами, как стальные тросы. Она вырвалась с рычанием, больше похожим на звериный, и вцепилась ему в руку. Клыки? У нее были клыки? Нет, просто ее зубы сомкнулись на его запястье с такой силой, что он почувствовал, как расходится кожа, как буравятся в плоть. Боль ударила, белая и ослепляющая.
– Таня! Очнись! Это я! Кирилл! – закричал он, пытаясь вырваться, видя, как ее безумный взгляд скользит по нему, не узнавая.
Из черной ямы за камнем что-то зашевелилось. Показались длинные, костлявые пальцы с ногтями, как ржавые гвозди. Они вцепились в край ямы. За ними – тень, неопределенная, но несущая волну такого холодного, древнего зла, что Кирилла затрясло мелкой дрожью. Они. Те, кто дал ей этот «дар». Те, кто сломал ее.
Бессилие накрыло его, как ледяная волна. Он не мог ее удержать. Не мог защитить. Не мог понять. Его молитвы старому идолу – пустые слова в пустоту. Его крестные знамения новой вере – жалкие жесты перед лицом этого ада. Ни старые боги, ни новые – никто не пришел. Никто не помог. Его Таня, его любовь, его свет – корчилась в луже собственной крови, рвала себя на части под взглядом адских сущностей, и он был бессилен. Абсолютно, унизительно бессилен.
Эта мысль – как раскаленный штырь – пронзила его страх, его боль. И на месте отчаяния вспыхнула ярость. Глубокая, первобытная, всесжигающая ярость. Она поднялась из самого нутра, из разбитого сердца, из униженной души. Она заполнила его, вытеснив все остальное. Он отпустил ее руку. Она тут же снова впилась когтями в свое плечо, рванула – и тонкая струйка крови брызнула ему на лицо. Теплая. Соленая. Как последняя слеза.
Кирилл поднял голову. Не к яме, не к тварям. Он поднял лицо к почерневшим, низким балкам кузницы, к черноте за ними, где должны были обитать боги – любые боги.
– СЛЫШИТЕ МЕНЯ?! – Его крик сорвался с губ, хриплый, раздирающий горло, полный такой ненависти, что даже тени у ямы на мгновение, замерли. – СТАРЫЕ БОГИ! НОВЫЕ БОГИ! ВСЕ ВЫ, ПРЯЧУЩИЕСЯ В НЕБЕСАХ ИЛИ В ПЕЩЕРАХ! ВЫ ВИДЕЛИ! ВИДЕЛИ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ С НЕЙ! И ВЫ… НИЧЕГО! – Он задохнулся, грудная клетка горела. – …НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ! ТРУСЫ! ПАЛАЧИ! ИЛИ ВЫ С НИМИ ЗАОДНО?!
Он плюнул на пол, плевок смешался с кровью Тани. Его глаза, налитые кровью, уставились на ее корчащуюся фигуру, на черный камень, который, казалось, втягивал в себя ее боль, ее безумие, ее жизнь. Бессилие душило его, ярость рвала изнутри, требуя выхода, действия, любой цены.
И тогда Онозаговорило. Не снаружи. Не из ямы. А из самой черноты в его собственном разуме, из той бездны отчаяния, что поглотила все остальное. Голос был тихим, как шорох змеи в сухой траве, но каждое слово вонзалось в сознание с ледяной ясностью.
Ненависть… Да… Она чиста… Она сильна…
Голос был одновременно древним, как сама земля под кузницей, и юным, как только что пролитая кровь. В нем не было сочувствия. Было понимание.
Ты видишь их слабость? Их ложь? Старые… Новые… Все они плетут паутину страха. Прячутся за дымом кадил и дымом костров.
Кирилл замер, сжав виски, пытаясь понять, его ли это мысли, или… Кровь стучала в ушах, но голос пробивался сквозь гул.
Они бросили тебя. Бросили ее. Как бросили Меня… Внутри что-то содрогнулось. Меня? Кто?
Их свет – ложь. Их порядок – тюрьма. Они цепляются за свои алтари, боясь Тьмы… боясь Истины… боясь Меня…
Тень над ямой шевельнулась. Глаза – холодные, зеленые угли – будто встретились с его взглядом. И Кирилл узнал. Узнал эту ненависть. Эту ярость против всех богов, всех порядков, всей этой лживой, жестокой вселенной. Она была зеркалом его собственной души, вывернутой наизнанку и увеличенной до космических масштабов.
Ты хочешь мести? Настоящей? Не молитвы в пустоту… Не жалкие удары в темноте…
Голос стал настойчивее, соблазнительнее, как острый нож, обещающий освобождение через разрушение.
Я дам ее тебе. Я покажу путь. Я дам силу разорвать паутину. Разрушить храмы… Осквернить алтари… Превратить их охоту в их гибель…
Обещание висело в воздухе, тяжелое и сладкое, как запах гниющей плоти. Оно заполняло пустоту, оставленную молитвами. Оно давало цель – не спасение, но уничтожение. Не свет, но очищающий огонь ненависти.
Слушай Меня… Иди за Мной… И мы сожжем их небеса дотла…
Кирилл не ответил. Не мог. Не словами. Но в его сердце, разбитом и полном яда, что-то щелкнуло. Не согласие. Капитуляция. Принятие. Ярость нашла фокус. Бессилие обрело союзника в самой тьме, которую он только что проклинал. Он больше не был одинок в своей ненависти.
Он выпрямился. Его взгляд, еще секунду назад полный слепой ярости, стал… холодным. Целеустремленным. Как лезвие, заточенное для одного удара. Он посмотрел на Таню, корчащуюся на камне, на ее кровь, чернеющую в тусклом свете. Посмотрел на тени у ямы, на их зеленые, голодные глаза. Ни страха, ни отчаяния. Только ледяная решимость.
Без слов он развернулся. Не к жене – к ней уже не было пути назад. Не к яме – там было не его место. Пока. Он направился к распахнутой двери кузницы, к черному зеву ночи. Его шаги были твердыми, несмотря на боль в укушенной руке, несмотря на дрожь, все еще бегущую по спине. Он не оглядывался. Он знал, куда идти. К деревне. К ним. К тем, кто принес этот дар. К тем, кто служил богам, бросившим его. Они всегда завидовали ему. Его счастью. Её красоте. Это они сделали с ней. И они заплатят.
За его спиной, в кузнице, безумный смех Тани слился с шипящим шепотом теней. А камень под ней, казалось, впитал еще больше крови, стал еще чернее, еще… живее. Начиналось. Его крестный путь мести только что обрел страшного спутника. И первый шаг был сделан.
***
Старый Матвей ждал. Хозяин должен был вот-вот расправить свои крылья и призвать их, покорных слуг, к себе во служение. Дабы начать нести Правду. Начать Охоту.
Старик сидел у потухшей печи, пальцы бесцельно ворочали сухую корку хлеба. Внезапно его рука дернулась, сжалась в кулак. Кость в запястье хрустнула громко, как сухая ветка. Он поднял голову. Из его ушей, ноздрей, уголков запавших глаз медленно, густо, как черная патока, поползла вязкая слизь. Она не капала, а вылущивалась, наползая на морщинистую кожу. Его челюсть отвисла с тихим скрипом, обнажая почерневшие десны и зубы, внезапно ставшие мелкими и острыми, как у крысы. Тень на стене за его спиной вытянулась, исказилась – голова качнулась на слишком длинной, змеиной шее, а руки-тени срослись в нечто вроде лопастей или плавников. Он встал. Позвонки щелкали, как костяшки счет. По полу за ним потянулся влажный, липкий след.
***
Тем временем, ткачиха Марфа, уже была готова, но все еще надеялась успеть доплести. Более ведь, не доведется.
Она вздрогнула над недоплетенным полотном. В голове, не в ушах, а прямо в сером веществе, забил Колокол. Глухой, тяжелый, каждый удар – как молот по наковальне черепа. Боль разорвала виски. Она вскрикнула – и звук исказился, стал булькающим, хлюпающим. Перед старым, закопченным зеркалом она увидела: ее лицо плыло. Кожа на скулах обвисла, потекла вниз, как расплавленный воск, обнажая мокрую, розоватую ткань под ней. Глаза поползли к вискам, сливаясь в одну черную, мерцающую каплю посреди лба. Она подняла руки – пальцы набухали, слипались, перепонки натягивались между ними, как гниющая кожа. Зеркало треснуло не снаружи, а изнутри. Из паутины трещин вылезли тонкие, белесые щупальца, похожие на корни, и потянулись к ее текущему лицу. Она не успела закричать снова – щупальца впились в стекающую кожу, втягивая ее, как спагетти, в темную паутину стекла.
***
Братья Орешниковы, не знали, чего ожидать. Их впервые призвали на Охоту.
Старший, Петр, мирно храпел на лавке. Младший, Федя, сидел у стола, тупо уставившись в темный угол. Вдруг его рука сама потянулась к топору, лежавшему рядом с недоеденной похлебкой. Пальцы обхватили рукоять с неестественной, мертвой хваткой. Он поднялся. Шаги были слишком тихими, слишком плавными. Он подошел к брату. Не колеблясь, с тупым, мокрым чмоком, топор вошел в шею Петра ниже уха. Кровь не ударила фонтаном – лишь густая, темно-бордовая жижа, пахнущая медью и болотной тиной, медленно просочилась из раны. Петр открыл глаза. Не с болью, а с удивлением. Его рот растянулся в улыбку, обнажая ряды мелких, острых зубов. Он поднял руку, вырвал топор из своей шеи – хрящи хрустнули жутко – и с тем же бесстрастным выражением лица, с той же улыбкой, всадил лезвие в живот Феди. Кишки не хлынули наружу. Из разреза полезли черные, жирные личинки, размером с палец, шипя и извиваясь. Братья стояли, пронзенные одним топором, и их кожа начала пузыриться и сливаться в месте раны, как два куска разогретого воска. Из образовавшейся массы стал вытягиваться третий торс – бесформенный, покрытый слизью и шипами.
***
Болотная вода, черная и тяжелая, как нефть, вдруг перестала отражать тусклые звезды. Она вздулась огромным, пульсирующим пузырем. Посреди него вспыхнул Свет. Не добрый, а язвенный, зеленовато-желтый, как гной под коркой струпья. Он сформировал крест. Но не символ спасения – перевернутый, изломанный, с концами, загнутыми в крючья, как у хищных птиц. Он не просто светился – он пожиралсвет вокруг. Звезды над ним меркли, будто их затягивало в эту адскую бездну. От креста по поверхности болота расходились круги – не воды, а чего-то плотного, маслянистого, покрытого пузырящейся плесенью. В тине зашевелились тени – огромные, бесформенные, потянувшиеся к храму, оставляя за собой борозды из вскипающей грязи и лопнувших пузырей с кислым газом.
Гул сотрясал землю.
***
Она стояла у высокого окна, затянутого настоящей, тончайшей паутиной, что не порвалась даже от ее дыхания. Ее руки, длинные и бледные, с ногтями, отливающими синевой, как у мертвеца, были спокойно сложены перед собой. На губах играла улыбка. Не злобная, не торжествующая. Голодная. Как у кошки, наблюдающей, как мышь попадает в ловушку. Она видела отражение перевернутого креста в своих огромных, абсолютно черных глазах. Видела, как в стекле окна за ее спиной шевелилось ее истинное отражение – нечто многоногое, покрытое чешуей и хитиновыми пластинами, с глазами-фасетками, мерцающими тем же язвенным светом, что и крест над болотом. Она не оборачивалась. Она вдыхала воздух, наполняющийся криками (еще негромкими, только начинающимися), запахами разрываемой плоти, страха и древней плесени. Это был аромат начала. Начала Охоты. Начала Платы. Начала конца для тех, кто считал себя гостями. Ее язык, тонкий и раздвоенный, как у змеи, мелькнул, облизал алые губы.
За окном, она видела, как первый из обратившихся, готовился принести в жертву, эту мерзкую хабалку. Видела, как из изб начали выползать остальные гончие. Обратившиеся, вознесшиеся!
Улыбка той, что знали под именем Анастасия, сделалась еще шире.
Глава 11
Тьма в избе была не просто отсутствием света. Она была живой, тяжелой, как мокрая шерсть, пропитанной запахом сушеных трав, пыли и подспудной и сладковатой вонью, напоминающей гниющее мясо, забытое в дальнем углу погреба. Султан прислонился спиной к шершавому, холодному бревну стены. Каждая неровность древесины впивалась в его спину сквозь тонкую ткань рубахи. Он чувствовал липкую влагу пота на лбу и ледяную дрожь, бегущую по позвоночнику, никак не связанную с температурой в избе. На против него, в двух шагах, замерла она– «снегурочка». Лунный свет, пробивающийся сквозь щель между ставень, падал узкой полосой, высвечивая ее бледное, кукольное лицо. Но кукольным оно было лишь на первый взгляд. Губы, еще минуту назад казавшиеся мягкими и призывно приоткрытыми, теперь были растянуты в хищной ухмылке, обнажая два ряда мелких, острых, как у щуки, зубов. В больших, темных глазах, которые днем казались пустыми, теперь плясали крошечные зеленоватые огоньки, как гнилушки в болотной трясине.
– Не убежишь, – прошептала она. Голос был тем же, что и раньше – звонким, женственным, но теперь в нем слышался отчетливый булькающий подтекст, будто говорящий давился собственной слюной. – Сам пришел. Сам захотел. Зачем же бежать?
Ее пальцы, тонкие и бледные, с ногтями, которые внезапно показались Султану слишком длинными и острыми, как когти, сжали край белой льняной рубахи. Ткань порвалась с легким, зловещим шелестом, обнажая плоский живот и ребра, слишком рельефно выступающие под тонкой кожей. Но Султан уже не смотрел на тело. Его взгляд был прикован к глазам – бездонным черным колодцам, где плясали адские зеленые искры. В них не было ничего человеческого. Только холодный, ненасытный голод.
– Бля… – вырвалось у него, слово сорвалось на хрип. По спине пробежали мурашки. Он чувствовал на своей щеке жгучую полосу от ее когтей, а на груди, чуть левее соска, пылала рваная рана, глубокая и кровавая, от первого укуса. Предупреждение. Дегустация. Следующий будет смертельным.
Она сделала шаг вперед. Плавный, кошачий. Султан инстинктивно вжался в стену, но отступать было некуда. Его ладонь нащупала на груди липкую теплоту. Кровь.
– Теплый… – она протянула руку, ледяные кончики пальцев коснулись его вспотевшей щеки. – Живой. Нам это нравится. Очень.
Султан резко дернул головой в сторону, сбивая жуткое прикосновение. Взгляд метнулся по избе в отчаянном поиске оружия, хоть какого-то шанса. Стол, грубые лавки, массивная русская печь, темнеющая в углу… На полке у печи – глиняный горшок, крышка слегка сдвинута. Ничего серьезнее.
– Не дергайся, – она зашипела, и в этом шипении внезапно прорвалось что-то звериное, нетерпеливое. – Ты вкусный… Спокойнее.
Ее рука, быстрая как змеиный прыжок, рванулась к его горлу. Султан, движимый слепой яростью и инстинктом выживания, ударил ее коленом в живот. Колено воткнулось во что-то рыхлое, податливое и не нанесло никакого урона. Она даже не пошатнулась. Зато ее пальцы впились ему в плечи с чудовищной силой. Острые когти пробили ткань и кожу, вонзились в мышцы. Горячая волна боли хлынула по спине, заставив его взвыть.
– А-а-аргх! Тварь!
– Да… злись… – она засмеялась, и смех ее был влажным, булькающим, как вода в забитой раковине. – Очень… очень вкусно… Адреналин… специя…
Его рот раскрылся шире, чем позволяла анатомия человека, обнажая темную, пульсирующую глотку. Из глубины выполз длинный, тонкий, как у огромной пиявки, язык с заостренным, костяным кончиком. Он коснулся его шеи, чуть ниже уха, оставляя за собой липкий, обжигающе-холодный след.
Султан понял с леденящей ясностью. Еще секунда – и этот костяной шип вонзится ему в сонную артерию. Выпьет заживо. Он рванулся, отчаянно упираясь ей ладонью в подбородок, пытаясь откинуть эту страшную голову. Другая рука метнулась за спину, нащупывая полку. Пальцы наткнулись на холодный, шершавый ободок глиняного горшка.
– На, сука! ГЛОТАЙ!
Со всей силы, вложив в удар весь вес и отчаяние, он треснул ей горшком по виску. Раздался глухой, горшочный звук, и глина разлетелась осколками. Внутри оказалась какая-то липкая, кисло пахнущая жижа – толи остатки щей, толи забродившее варево. Главное – удар и неожиданность сработали. Она взвыла – нечеловечески, пронзительно – и на миг ослабила хватку. Когти выскользнули из его плеч.
Султан не раздумывал. Он рванулся в сторону, к двери. За спиной – яростный, захлебывающийся рев, полный безумной ярости. Он не оглядывался. Его рука нащупала холодную, шершавую скобу. Дернул изо всех сил. Дверь не поддалась. Не заперта – просто тяжеленая, на дубовых, вековых петлях.
– Ты… – позади раздался шепот, от которого кровь стыла в жилах. – Ты… испортил… мой ужин!
Он уперся плечом в массивную доску, почувствовав, как дрогнули бревна сруба. Раз! Два! На третий, отчаянный толчок, дверь с протяжным, скрипучим визгом подалась, распахнувшись наружу. Порыв ночного воздуха, холодного, влажного, пахнущего дымом, прелью и чем-то медным, ударил ему в лицо.
Султан вывалился на крыльцо, споткнулся о скользкую ступеньку и рухнул лицом в холодную, вязкую грязь. За спиной – неторопливые, шлепающие шаги босых ног по половицам, а затем и по земле. Она шла за ним. Уверенно. Как хищник, знающий, что добыча ранена.
– Бля… – он отплевался от грязи, поднялся, игнорируя пронзительную боль в груди и плечах. Страх придавал сил, адреналин жёг изнутри. Он побежал, спотыкаясь, не разбирая направления, туда, где сквозь черноту ночи и хаос нарастающих криков мерцали редкие огоньки других изб – островки, уже охваченные адом. Крик Дрозда! Он узнал этот хриплый голос! Туда!
***
Гюрза застыла. Весь её цинизм, вся привычная агрессия, вся «змеиная» броня сжались в ледяной комок чистого, животного ужаса. Это был не человек. Это был кошмар из самых тёмных сказок, оживший прямо перед ней. Она осторожно шагнула назад, чувствуя, как подкашиваются ноги. Она инстинктивно сунула правую руку в карман куртки. Пальцы коснулись чего-то холодного. Так я не выложила его?
Пальцы сомкнулись на ноже-бабочке.
Тварь собралась с силами, мощные мышцы задних лап сгруппировались. Воздух свистнул, разрезаемый когтями, когда она рванулась с места в низком, стремительном броске, как ягуар на добычу. Гюрза метнулась вбок, к стене терема, чувствуя свист смерти в сантиметре от лица. Когти скрежетнули по бревнам, оставляя глубокие борозды. Она выдернула руку из кармана, с зажатым в ней ножом и ловко раскрыв его, ткнула в бок монстра. Тонкое лезвие чиркнуло по ребрам и сломалось.
Твою мать, а на что ты рассчитывала?
Тварь взвизгнула от ярости и развернулась ещё быстрее, её когтистая лапа взметнулась, целясь Гюрзе в горло. Та отбила рукой, ощутив, как острые когти рвут ткань куртки и кожу предплечья. Боль, словно на руку плеснули кипяток, вспыхнула, но тут же угасла подавленная, клокочущим внутри адреналином. Она зашипела, отступая, пытаясь сохранить дистанцию, понимая – следующий удар будет последним. Тварь была быстрее, сильнее, смертоноснее.
Внезапно из темноты за углом терема метнулась тень. Быстрая, тихая, как призрак. Тень обрушилась на спину твари не с криком, а с глухим, мощным ударом, похожим на падение мешка с песком. Раздался сдавленный хрип. Зазубренный тесак сверкнул в лунном свете, как серебряная молния, и вонзился глубоко в шею существа, чуть ниже основания черепа.
Чёрная, густая, почти как нефть, кровь брызнула фонтаном на тёмные брёвна терема. Тварь взвыла, дико, захлёбываясь собственной кровью, пытаясь сбросить с себя нападавшего. Её движения стали хаотичными, бессильными.
Нападавший отскочил, ловко перекатившись по земле и встав между Гюрзой и корчащимся в агонии чудовищем. В руке он держал окровавленный тесак с обломанным кончиком. Это был Алпатов. Его глаза, холодные и острые, как лезвия его же тесака, метались, оценивая Гюрзу, тварь и подходы к терему.
– Живая? – бросил он тихо, не отрывая взгляда от твари, которая, хрипя и захлёбываясь, пыталась подняться на дрожащих лапах. Рана на шее зияла, пульсируя чёрной кровью, но, казалось, лишь подпитывала её слепую ярость.
Гюрза кивнула, прижимая окровавленное предплечье. Слова застряли в горле. Облегчение от его появления смешалось с новой волной адреналина.
– Что… что это? – выдавила она наконец.
– Местные, – коротко и мрачно ответил он. Голос был глух, словно он говорил сквозь подушку. – Просыпаются. Я так понимаю, кто-то или что-то разбудило их. – Он кивнул в сторону.
Из-за частокола, в глубине леса, раздавался низкий, гулкий, проникающий в самые кости звон. Он звучал не снаружи, а прямо в голове, навязчиво и неотвратимо. – Их много. И кто они пока не важно. Надо уходить. Сейчас.
Тварь перед ними встряхнула окровавленной головой, издав булькающий, хриплый рык. Она собрала последние силы, готовая броситься снова, несмотря на смертельную рану.
– А остальные? – Гюрза оглянулась в сторону изб, где их разместили. Оттуда уже неслись первые приглушенные крики, звон разбитого стекла, дикий вой и… чавкающие звуки.
Павел стиснул рукоять тесака. Его взгляд был ледяным, как сибирская река.
– Сначала – ты. Потом – они. Не успеем – умрем все. Выбора нет. Я хотел пробраться в терем, но теперь это бессмысленно. Мы только загоним себя в ловушку.
Тварь, истекая черной кровью, рванулась к ним. Павел встретил ее обломком тесака – короткий, точный, как выстрел снайпера, удар в морду, заставивший её отшатнуться с новым визгом боли. Он толкнул Гюрзу в сторону узкого прохода между теремом и глухой стеной какого-то амбара.
– Беги! Собирай остальных! Я задержу эту!