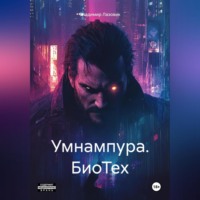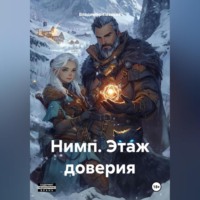Полная версия
Ромашковое поле
Что может быть важнее жизни?
Жизнь – это все. Это дыхание, это чувства, это мысли, это любовь, это боль, это надежды, это воспоминания. Это ее отец. Это те немногие люди, которых она знала. Это те, кого она не знала, но кто тоже имел право жить.
Что может покрыть такой огромный, такой несоизмеримый груз, как жизнь? Не одна жизнь, а множество жизней, жизни целого поселка.
Мысли метались в ее голове, как обезумевшие птицы. Деньги? Драгоценности? Какие-то материальные ценности? Нет, это было бы слишком просто, слишком… по-человечески. Существо, говорящее с ней, было древнее денег, древнее золота. Оно говорило об энергии, о сути.
Воспоминания? Чувства? Можно ли отдать свои самые дорогие воспоминания? Свою способность любить? Свой талант? Свою душу, если она существует?
Виля сидела, раздавленная тяжестью этого вопроса, этой невыполнимой, казалось бы, задачи. Что она, обычная семнадцатилетняя девушка, потерявшая мать и почти потерявшая себя, может предложить этому древнему, всемогущему существу? Что у нее есть такого, что было бы важнее жизни?
Ответ не приходил. И время… время продолжало свой безжалостный отсчет. Оставалось шесть дней.
Тишина, повисшая после слов голоса, была настолько плотной, что, казалось, ее можно было потрогать. Виля сидела, оцепенев, пытаясь осмыслить эту чудовищную дилемму. «Что-то важнее жизни…»
И тут, как вспышка молнии в темной ночи, в ее голове родилась отчаянная, почти безумная мысль. Она подняла голову, ее глаза, полные страха и какой-то новой, почти лихорадочной решимости, встретились с невидимым взглядом поля.
«А что… что если я предложу тебе всего одну жизнь?» – ее голос дрожал, но она заставила себя продолжать, слова вырывались из нее, как поток, который она больше не могла сдерживать. – «Мою жизнь? Одну. Взамен всех остальных. Неужели… неужели это не будет достаточно ценно? Одна жизнь, отданная добровольно, ради спасения многих. Разве вес такого самопожертвования… не перекроет жизни всех в поселке?»
Она выпалила это и замерла, ожидая ответа, готовая к чему угодно – к гневу, к насмешке, к тому, что ее просто проигнорируют. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Воздух вокруг нее, казалось, застыл, ромашки перестали колыхаться, словно само поле задержало дыхание, обдумывая ее предложение.
Пауза длилась целую вечность. Виле казалось, что она слышит, как скрипят невидимые шестеренки древнего механизма, взвешивая ее слова, ее жизнь.
И голос ответил. Низкий, гулкий, все такой же печальный, но теперь в нем, как показалось Виле, прозвучала какая-то новая, едва уловимая нота. Может быть, удивление? Или… уважение?
«Да», – произнес он, и это короткое слово упало в тишину, как камень в глубокий колодец. – «Одна жизнь, отданная добровольно, с полным осознанием цены… Это… это имеет вес. Очень большой вес. Да, это перекроет. Цикл будет насыщен. Я усну».
Ответ был ошеломляющим. Таким простым и таким ужасным одновременно. Виля почувствовала, как по ее спине пробегает волна ледяного ужаса, смешанного с каким-то странным, почти извращенным облегчением. Есть выход. Есть способ спасти всех. Но цена… цена была немыслимой.
Она не ожидала такого ответа. Часть ее, та, что отчаянно цеплялась за жизнь, надеялась, что голос откажется, скажет, что этого мало, что нужна какая-то другая, более сложная жертва. Но он согласился. И это было страшно.
Виля была недовольна этим ответом. Нет, не так. Она была в ужасе от него. Естественно, она не собиралась вот так просто отдавать свою жизнь. Ей было всего семнадцать. Она хотела жить, хотела рисовать, хотела… хотела, чтобы все это оказалось просто дурным сном. Мысль о собственной смерти, пусть даже героической, была невыносима.
Но…
Но теперь у нее был «план Б». Запасной вариант. Самый крайний, самый отчаянный. Если она не сможет найти ничего другого, если все ее попытки провалятся… то у нее будет этот выход. Страшный, но выход.
Это осознание, как ни странно, придало ей немного сил. Теперь задача стала еще более четкой, еще более насущной.
«Теперь осталось понять, что может быть важнее жизни», – прошептала она, скорее себе, чем голосу. Если ее собственная жизнь, отданная добровольно, имеет такой вес, то что еще может сравниться с этим? Что нематериальное, что духовное, что настолько ценное, что способно насытить этот древний, голодный цикл?
Вопрос оставался открытым. Но теперь у нее было хотя бы направление для поисков. И шесть дней, чтобы найти ответ. Шесть дней, чтобы найти что-то важнее собственной жизни. И это была самая сложная задача, с которой она когда-либо сталкивалась.
«Я… я подумаю», – прошептала Виля, и голос ее был слабым, почти неслышным. Она не знала, что еще сказать. Диалог, такой страшный и такой важный, подошел к какому-то логическому, но совершенно невыносимому рубежу. – «Спасибо… что ответил». Поблагодарить сущность, которая собиралась уничтожить всех или забрать ее жизнь, казалось верхом абсурда, но слова вырвались сами собой.
Голос не ответил. Только легкий, почти неуловимый вздох прошелестел по полю, заставив ромашки чуть качнуться. Словно он тоже устал от этого разговора, от этого бремени знаний и ответственности.
Виля медленно поднялась на ноги. Тело было ватным, непослушным. Она чувствовала себя опустошенной, выжатой до последней капли. Она сунула блокнот и ручку в карман, даже не взглянув на свои каракули – сейчас они казались бессмысленными по сравнению с тем грузом, который лег на ее плечи.
Она не стала прощаться вслух. Просто развернулась и пошла прочь, к границе поля, к той невидимой черте, за которой начинался обычный, человеческий мир. Шаги ее были медленными, тяжелыми, словно она несла на себе не только свой рюкзак, но и всю тяжесть этого древнего цикла, всю боль и печаль этого странного, всемогущего существа.
Когда она переступила черту, когда плотный, давящий воздух поля сменился обычным, свежим утренним воздухом, она не почувствовала облегчения. Наоборот, контраст был настолько резким, что ей стало еще хуже. Там, в поле, в присутствии голоса, все было страшно, но как-то… однозначно. Была угроза, были условия. Здесь же, в мире людей, которые ничего не подозревали, ее знания казались еще более чудовищными.
Она шла домой, и мысли в ее голове роились, как потревоженный улей.
Мысли о голосе. Кто он? Хранитель? Бог? Дьявол? Или просто древний, уставший механизм, запущенный кем-то на заре времен? Его печаль, его усталость… они были такими искренними, такими глубокими. Он не был злым в человеческом понимании этого слова. Он был… другим. Подчиненным какому-то высшему, непостижимому порядку. И это делало его еще более страшным, потому что с ним нельзя было договориться по-человечески, его нельзя было разжалобить или обмануть. Он был силой природы, стихией, которой бесполезно сопротивляться. И все же… он говорил с ней. Он ответил на ее вопросы. Он даже согласился на ее безумное предложение. Значит, в нем было что-то… или он видел что-то в ней?
Мысли о себе. Кто она теперь? Девушка, которая говорит с полями? Избранная? Или просто сумасшедшая, которой все это привиделось? Нет, это было слишком реально. Она теперь – носительница страшной тайны, страшного выбора. У нее есть шесть дней, чтобы найти «что-то важнее жизни». Или… или принести в жертву себя. Мысль о собственной смерти, о том, что она может вот так просто исчезнуть, была невыносимой. Ей было всего семнадцать. Она хотела жить, дышать, чувствовать, рисовать. Ее жизнь, такая короткая, такая еще не начавшаяся по-настоящему, вдруг оказалась разменной монетой в какой-то древней, космической игре. И это было несправедливо. Жестоко. Но это была ее реальность.
Мысли о жизни. Что такое жизнь? Раньше она не задумывалась об этом так глубоко. Жизнь была чем-то само собой разумеющимся. Да, она потеряла маму, и это было ужасно, это показало ей, какой хрупкой может быть жизнь. Но сейчас… сейчас речь шла о другом. О ценности жизни как таковой. О том, что может быть важнее ее. Любовь? Память? Искусство? Вера? Самопожертвование? Голос сказал, что ее добровольная жертва «имеет вес». Значит, не сама жизнь как биологический процесс, а что-то, что стоит за ней – воля, решение, мотив.
Она шла, и мир вокруг нее казался другим. Солнце светило так же, птицы пели, где-то смеялись дети. Но все это было подернуто флером обреченности. Эти люди, эти звуки, эти краски – все это могло исчезнуть через шесть дней. И только она знала об этом. И только от нее, возможно, зависело, исчезнет ли.
Тяжесть этого знания была почти физической. Ей хотелось кричать, плакать, биться головой о стену. Но она шла молча, сжимая кулаки, а в голове ее уже начинал вырисовываться смутный, отчаянный план. Она должна найти это «что-то». Что-то важнее жизни. И она найдет. Или умрет, пытаясь.
Глава 6. Тихий ужин
Дверь за Вилей захлопнулась с глухим стуком, отрезая ее от внешнего мира, от солнечного света, от ничего не подозревающего поселка. Она прислонилась спиной к прохладной поверхности двери, тяжело дыша, словно пробежала многокилометровый марафон, а не просто вернулась с поля. Ноги подкашивались, а руки мелко дрожали.
Дом встретил ее привычной тишиной и запахами – отец, видимо, снова что-то готовил. Но сейчас эти знакомые, уютные ароматы не успокаивали, а лишь подчеркивали ту пропасть, которая разверзлась между ее обычной жизнью и той чудовищной реальностью, с которой она только что столкнулась.
Олег вышел из кухни, вытирая руки о полотенце. Увидев ее, он нахмурился.
«Ну вот, опять бледная», – констатировал он с плохо скрываемой тревогой. «Вильетта, может, хватит уже этих пленэров? Посиди дома, отдохни. Я волнуюсь».
«Все… все нормально, пап», – выдавила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Просто устала немного. Воздух там… такой свежий, пьянящий». Ложь. Воздух там был плотным, давящим, пахнущим древностью и смертью.
Олег вздохнул, но спорить не стал. Вместо этого он сказал твердым, не терпящим возражений тоном: «Сегодня ужин будет семейный. Настоящий. Ты уже давненько отлыниваешь, ссылаясь на уроки или усталость. Сегодня я этого не потерплю. Приготовил твою любимую лазанью».
Виля замерла. Семейный ужин. Последнее, чего ей сейчас хотелось, – это сидеть за столом, делать вид, что все в порядке, улыбаться, поддерживать ничего не значащий разговор, когда внутри у нее все кричало от ужаса и отчаяния. Но взгляд отца был таким… настойчивым, почти умоляющим, что она не смогла отказаться. Может быть, ему тоже было одиноко. Может быть, он тоже нуждался в этом островке нормальности.
«Хорошо, пап», – кивнула она, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более естественно. «Конечно. Я только… поднимусь к себе, немного передохну».
«Вот и отлично», – Олег заметно повеселел. «Через часик тогда, жду тебя».
Она кивнула еще раз и, стараясь не смотреть ему в глаза, быстро прошла мимо него и поднялась по лестнице в свою комнату.
Как только дверь ее комнаты закрылась, Виля рухнула на кровать, не снимая ни отцовской рубашки, ни кед. Она лежала, глядя в потолок, и мир вокруг нее плыл. Шок от пережитого был настолько сильным, что она чувствовала себя так, словно ее ударили чем-то тяжелым по голове.
Голос. Цикл. Жертва. Шесть дней. Ее собственная жизнь как возможная плата.
Эти слова, эти понятия крутились у нее в голове, как заевшая пластинка, не давая ни на секунду расслабиться, не давая возможности вернуться к прежней, пусть и нерадостной, но хотя бы понятной реальности. Теперь все было иначе. Теперь над ней, над ее отцом, над всем этим поселком висел дамоклов меч, и только она знала об этом.
Она снова и снова прокручивала в памяти диалог с сущностью. Каждое слово, каждая интонация, этот всепроникающий холод и бесконечная печаль. Это не могло быть сном. Это не могло быть галлюцинацией. Она прикоснулась к маминому кулону на шее – холодный металл немного отрезвлял. Она посмотрела на свои руки – они все еще дрожали.
«Что делать? Что, черт возьми, делать?» – этот вопрос бился в ее висках, но ответа не было. Найти что-то важнее жизни… Это звучало как задача из древней легенды, как испытание для сказочного героя, а не для обычной семнадцатилетней девушки. А если она не найдет? Мысль о том, чтобы самой стать этой жертвой, вызывала приступ тошноты и ледяного ужаса. Она не хотела умирать. Она отчаянно, до боли в груди, хотела жить.
Но и позволить всем погибнуть она тоже не могла.
Это был замкнутый круг, ловушка, из которой, казалось, нет выхода. И у нее было всего шесть дней, чтобы этот выход найти. Шесть дней, чтобы совершить невозможное.
Виля спустилась на кухню, когда отец уже накрывал на стол. Аромат лазаньи, такой домашний и уютный, наполнил воздух, но у Вили аппетита по-прежнему не было. Она села за стол, стараясь выглядеть как можно спокойнее.
Они ели молча некоторое время. Олег с удовольствием поглощал свою лазанью, время от времени поглядывая на Вилю, которая лишь ковыряла вилкой в тарелке. Он видел, что с ней что-то не так, но, видимо, решил не лезть с расспросами, раз она сама ничего не говорит.
«Вкусно, пап», – наконец выдавила Виля, чтобы нарушить гнетущую тишину.
«Старался», – Олег улыбнулся. «Как в старые добрые времена, помнишь, мама всегда по воскресеньям готовила?»
При упоминании мамы сердце Вили сжалось. Но это был тот самый момент. Та самая зацепка, которую она искала.
«Пап…» – начала она неуверенно, подбирая слова. – «А вот… как ты думаешь… что может быть… ну, важнее самой жизни?» Она постаралась задать вопрос как бы между прочим, словно это была просто отвлеченная мысль, пришедшая ей в голову.
Олег отложил вилку, посмотрел на нее удивленно, но без подозрения. Скорее, с каким-то задумчивым интересом. «Хм… важнее жизни?» – он потер подбородок. «Вопрос, конечно, интересный. Философский». Он помолчал, глядя куда-то в сторону, словно заглядывая в себя.
Виля затаила дыхание, ожидая ответа. Она боялась, что он отмахнется, скажет, что это глупости, или начнет читать ей нотацию о том, что жизнь – это самое главное.
Но Олег ответил не сразу. Он смотрел на пустое место за столом, то самое, где всегда сидела мама. И когда он заговорил, его голос был тихим, но удивительно твердым, почти решительным, словно он давно уже нашел для себя ответ на этот вопрос и нисколько в нем не сомневался.
«Знаешь, Вилюш…» – начал он, и в его голосе не было ни грамма пафоса или философствования. Он говорил просто, как о чем-то само собой разумеющемся. – «Вот… мамы нашей больше нет. Физически. Ее жизнь… закончилась». Он сделал паузу, и Виля увидела, как в его глазах блеснула непрошеная слеза, которую он тут же смахнул.
«Но…» – он посмотрел прямо на Вилю, и в его взгляде была такая глубина и такая уверенность, что ей стало не по себе. – «Но мы ведь ее помним, правда? Помним ее улыбку, ее смех, то, как она готовила эти свои дурацкие, но такие вкусные пирожки с капустой. Помним, как она злилась, когда я разбрасывал носки, и как радовалась твоим первым рисункам».
Он усмехнулся каким-то своим мыслям, и эта усмешка была одновременно и грустной, и светлой.
«Так вот, я думаю… важнее самой жизни – это память. Память о человеке. Пока мы помним – хорошие вещи, плохие, неважно, – человек все еще жив. Здесь», – он приложил руку к сердцу. – «В наших сердцах. В сердцах других людей, которые его знали, любили».
Он снова посмотрел на пустое место мамы. «Вот ее нет с нами уже… сколько? А я до сих пор иногда ловлю себя на мысли, что хочу ей что-то рассказать. Или слышу, как она смеется. Глупо, наверное. Но это потому, что я ее помню. И пока я помню, она для меня не умерла окончательно. Она просто… где-то рядом».
Он помолчал, а потом добавил, уже глядя на Вилю: «Так что да. Память. Хорошая, светлая память – вот что, наверное, важнее самой жизни. Потому что жизнь конечна, а память… память может жить очень долго. Пока есть кому помнить».
Его ответ был таким простым и таким… обезоруживающим. Не философская концепция, а живое, выстраданное чувство. Память. Виля сидела, ошеломленная. Она ожидала чего угодно – разговоров о Боге, о душе, о самопожертвовании во имя великой цели. Но память… Это было так… по-человечески. И так близко ей самой.
Она ничего не сказала, только кивнула, давая понять, что услышала. В голове ее зарождалась новая мысль, новая зацепка. Память. Может ли это быть тем, что ищет сущность? Энергия воспоминаний?
Когда ужин закончился и отец, погруженный в свои мысли, начал убирать со стола, Виля быстро поднялась к себе в комнату. Она чувствовала себя немного лучше – разговор с отцом, его простой и искренний ответ, принес ей не облегчение, но какую-то новую пищу для размышлений.
Она села за стол, открыла синий блокнот. На первой странице, под ее вчерашними лихорадочными записями о «дыхании поля» и многоликой природе сущности, она аккуратно, стараясь писать разборчиво, вывела: «ПАМЯТЬ. Важнее жизни? (Папин ответ)».
Память.
Она откинулась на спинку стула, глядя на это слово. Это было сильно. Это было глубоко. И это, как ни странно, перекликалось с тем, что говорил голос. «Жизни… полны энергии, чувств, воспоминаний». Может быть, сущности нужны были не сами жизни, а именно то, что их наполняет? Их концентрат? Их след?
Но как?
Этот вопрос встал перед ней во весь рост, заслоняя все остальное. Как можно «отдать» память? Это же не вещь, которую можно взять и передать из рук в руки. Это что-то нематериальное, эфемерное, существующее только в сознании.
Виля попыталась представить себе этот процесс. Что, если она придет на поле и скажет: «Я готова отдать тебе память о моей маме»? Что произойдет? Сущность как-то… высосет ее из головы? Она забудет маму? Забудет ее лицо, ее голос, ее смех? Мысль об этом была невыносимой. Потерять память о маме – это было бы хуже смерти. Это было бы как умереть дважды.
Или речь идет о какой-то другой памяти? Памяти всего поселка? Но как ее собрать? Как ее «отдать»? Это звучало еще более абсурдно.
Может быть, сущности нужны не сами воспоминания, а… артефакты, хранящие память? Старые фотографии, письма, дневники, вещи, принадлежавшие людям? Но голос говорил о «энергии», о «насыщении цикла». Разве могут старые, пыльные предметы обладать такой силой?
Или речь идет о чем-то более символическом? О создании чего-то, что увековечит память? Мемориал? Книга? Песня? Но как это «отдать»? И успеет ли она это сделать за оставшиеся дни?
Виля снова и снова перечитывала слова отца, записанные в блокноте. «Пока тебя помнят, ты все еще жив… в сердцах других людей». Может быть, ключ в этом? В том, чтобы память продолжала жить? Но как это связано с «забиранием важного»?
Вопросов было больше, чем ответов. Идея с памятью казалась одновременно и многообещающей, и совершенно непрактичной. Она чувствовала, что где-то здесь есть что-то важное, какая-то ниточка, за которую можно уцепиться. Но как ее распутать, как превратить эту абстрактную идею в конкретное предложение для древней, всемогущей сущности, она пока не понимала.
«Нужно больше мнений», – решила она. – «Нужно больше зацепок». Ответ отца был только началом. Она должна продолжать свои «интервью». Завтра. Завтра она попробует поговорить с кем-то еще.
Но мысль о памяти, о ее силе и ценности, уже прочно засела у нее в голове. И она знала, что будет возвращаться к ней снова и снова в эти оставшиеся, такие короткие, дни.
Взгляд Вили невольно метнулся к окну. Там, в сгущающихся сумерках, темнело знакомое пятно – ромашковое поле. Оно стояло на своем месте, как и всегда, безмолвное, неподвижное, хранящее свою страшную тайну. Или… не хранящее?
И тут, как ледяной душ, ее окатила новая, совершенно ужасающая мысль. А что, если…
«Что, если этот голос… он не настоящий?»
Эта мысль была настолько страшной, что Виля на мгновение задохнулась. Она так отчаянно цеплялась за реальность этого голоса, за реальность угрозы, что даже не допускала иного варианта. Но сейчас, после разговора с отцом, после этих мучительных размышлений о памяти и жертве, эта альтернатива вдруг предстала перед ней во всей своей кошмарной правдоподобности.
«А что, если это все… у меня в голове?»
Она села на край кровати, чувствуя, как по спине пробегает холодный пот. Что, если все эти диалоги, эти вздохи поля, эти предсказания – просто плод ее больного воображения? Результат стресса, горя, одиночества?
«Вот как получится», – ее мозг, словно издеваясь, начал рисовать одну страшную картину за другой. – «Виля не найдет ответа на свой дурацкий вопрос «что важнее жизни». Она решит, что другого выхода нет. Состоится «план Б». Ее найдут мертвой на этом проклятом поле. Самоубийство. И все. Никакого голоса нет и не существовало. Никакого цикла, никакой угрозы поселку. Просто… у Вильетты медленно, но верно развивается шизофрения. Или какая-то другая жуткая психическая болезнь. Она никому об этом не рассказала, потому что боялась, или стыдилась, или просто не осознавала. И в последствии, под влиянием своих галлюцинаций, она убила себя».
От этой мысли ей стало дурно. Это было бы… это было бы самым страшным и самым нелепым финалом. Не героическая жертва ради спасения других, а трагическая смерть психически больной девочки, которая просто не справилась со своими демонами. И ее отец… Что будет с ним, когда он узнает? Он же никогда себе этого не простит.
«Точно!» – Виля вскочила, ее сердце колотилось от новой волны ужаса, смешанного с каким-то отчаянным, лихорадочным возбуждением. – «Как я об этом не подумала раньше?!»
Она так увлеклась поисками «чего-то важнее жизни», так поверила в реальность этой сущности, что совершенно упустила из виду самую простую и самую страшную возможность – что это все просто ее безумие.
«Нужно как-то проверить!» – эта мысль стала доминирующей, оттесняя все остальные. – «Я должна знать наверняка, существует ли этот голос на самом деле, или я просто схожу с ума!»
Но как? Как это проверить? Она не могла привести на поле отца или кого-то еще и сказать: «Слушайте! Оно говорит!» Если голос реален только для нее, это ничего не докажет. Если же они ничего не услышат, это только подтвердит ее худшие опасения.
Ей нужны были… объективные доказательства. Что-то, что не зависело бы от ее субъективного восприятия.
Может быть, диктофон? Если она запишет свой разговор с голосом, а потом на записи ничего не будет… это будет означать… О, Боже.
Или, может быть, есть какие-то физические проявления? Вчера ромашки склонялись от его выдоха. Если она сможет это как-то зафиксировать? Но как?
Мысли метались, лихорадочно ища выход. Прежде чем она продолжит свои «интервью», прежде чем она будет думать о жертвах и о том, что важнее жизни, она должна была получить ответ на этот самый главный, самый страшный вопрос: реален ли ее кошмар, или он существует только в ее голове?
И от ответа на этот вопрос зависело все. Абсолютно все.
Идея пришла внезапно, как вспышка света в темной комнате. Телефон! У нее же есть телефон с функцией диктофона.
«Точно!» – Виля почти подпрыгнула на месте. Это было так просто, так очевидно, что она удивилась, как не додумалась до этого раньше.
Если голос реален, если он существует не только в ее воображении, то диктофон должен его записать. Это будет объективным доказательством. Или, наоборот, его отсутствием.
План начал стремительно вырисовываться в ее голове.
Завтра утром она снова пойдет на поле. Она снова попытается заговорить с сущностью. И все это время ее телефон будет лежать в кармане, с включенной записью. Она постарается задавать такие вопросы, чтобы ответы были достаточно длинными, отчетливыми.
А потом… потом она прослушает запись. Если на ней будет только ее собственный голос, ее вопросы, повисшие в тишине… тогда все ясно. Тогда ей нужно будет не к полю идти, а к врачу. И как можно скорее.
Но если… если на записи будет и другой голос? Этот низкий, гулкий, печальный голос? Тогда это будет означать, что она не сумасшедшая. Что угроза реальна. И что ее поиски «чего-то важнее жизни» – не бред, а отчаянная необходимость.
Но даже этого было мало. Что, если она сама себя обманет? Что, если ее больное воображение заставит ее услышать на записи то, чего там нет?
Нет, ей нужно будет мнение со стороны.
И тут возникла вторая часть плана. Если на записи будет голос, она покажет ее отцу. Скажет, например… что это запись лекции какого-то нового преподавателя по удаленке, и у него такой необычный, красивый голос, и ей просто интересно, как он звучит со стороны. Отец, конечно, может удивиться, но вряд ли заподозрит что-то неладное. И если он тоже услышит этот второй голос…