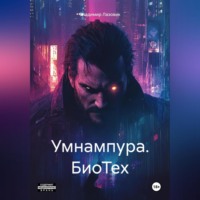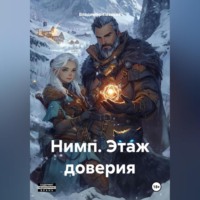Полная версия
Ромашковое поле
«Доброе утро, солнышко», – Олег обернулся, улыбаясь ей своей обычной теплой, немного усталой улыбкой. Но улыбка тут же слегка померкла, когда он внимательнее посмотрел на нее. Он всегда был наблюдательным, особенно когда дело касалось ее. «Ты как? Не выспалась?»
Виля заставила себя улыбнуться в ответ, надеясь, что это не выглядит слишком натянуто. «Привет, пап. Да так, что-то сны дурацкие снились всю ночь». Она подошла к столу, села на свое место. «А что на завтрак вкусного?» – попыталась она перевести тему, изображая бодрость.
Олег поставил перед ней тарелку с омлетом и пару румяных тостов. «Витаминный заряд перед… чем бы ты сегодня ни занималась», – он прищурился, изучая ее. Его отцовский радар безошибочно улавливал ее напряжение, несмотря на все ее старания. «Ты сегодня какая-то… сама не своя. Рубашка эта…» – он кивнул на свою старую фланелевую рубашку на ней. «Снова решила поиграть в лесоруба?» – попытался он пошутить, но в голосе слышалась тревога.
Виля отломила кусочек тоста, сделала вид, что с аппетитом его жует. В горле стоял ком, и еда казалась ватной. «Да просто прохладно сегодня что-то», – соврала она, стараясь не встречаться с ним взглядом. «И решила, знаешь, снова немного порисовать. На том поле. Вдохновение вчера посетило, хочу закончить». Это была полуправда, которая звучала достаточно убедительно, чтобы не вызывать лишних подозрений. По крайней мере, она на это надеялась.
«Опять на поле?» – Олег нахмурился. «Смотри там, осторожнее. Вчера ты вернулась оттуда бледная, как смерть. Я уж думал, что-то случилось».
Сердце Вили пропустило удар. Он заметил. Конечно, он заметил. «Да нет, пап, все нормально», – она постаралась, чтобы голос звучал беззаботно. «Просто… ну, знаешь, долго на солнце сидела, наверное, немного перегрелась. Сегодня возьму панамку». Еще одна ложь. Господи, сколько их уже накопилось.
Олег вздохнул, но спорить не стал. Он видел, что она что-то скрывает, но, видимо, решил не давить. Возможно, списал ее состояние на обычные подростковые переживания, усугубленные их общей трагедией. «Ну, смотри мне. Если что – сразу звони. И не засиживайся там до вечера».
«Хорошо, пап, не буду», – Виля заставила себя съесть еще пару ложек омлета. Еда не лезла, но она понимала, что если откажется совсем, это вызовет еще больше вопросов. Она перекусила просто из вежливости, чтобы не обидеть его, чтобы показать, что она ценит его заботу. А так, от стресса, который сжимал все внутри ледяными тисками, она была совсем не голодна.
«Ладно, я пойду тогда», – она поднялась, стараясь двигаться не слишком быстро, чтобы не выдать своего нетерпения и нервозности. «Спасибо за завтрак, было очень вкусно».
Олег посмотрел на нее долгим, немного печальным взглядом. «Береги себя, Вилюш», – сказал он тихо.
«И ты, пап», – она быстро чмокнула его в щеку и почти выбежала из кухни. Ей было невыносимо тяжело врать ему, видеть его беспокойство. Но что она могла сделать? Рассказать правду – значило бы вовлечь его в этот кошмар, заставить его волноваться еще больше, а он и так был на пределе. «Я справлюсь сама», – твердила она себе, выходя из дома. «Я должна справиться сама. А потом, когда все закончится… если все закончится… я ему все расскажу». Но это «потом» казалось таким далеким и нереальным.
Выйдя из дома, Виля на мгновение замерла, вдыхая свежий утренний воздух. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежные персиковые и розовые тона. Вокруг была тишина, нарушаемая лишь пением первых птиц да далеким лаем собаки. Обычное утро обычного дня. Но для Вили это утро было чертой, за которой начиналась неизвестность.
Она медленно пошла по знакомой тропинке, ведущей к полю. Каждый шаг давался с усилием, словно она шла против сильного течения. Вчерашний панический ужас сменился сегодня чем-то другим – тяжелой, почти физически ощутимой смесью страха и болезненной, почти маниакальной сосредоточенности.
Мир вокруг словно отодвинулся на второй план, стал приглушенным, нереальным. Звуки доносились как будто издалека, краски поблекли. Все ее существо, все ее внимание было сконцентрировано на одной точке – на том самом ромашковом поле, которое виднелось впереди, за последними домами поселка. Оно притягивало ее, как магнит, и одновременно отталкивало, вызывая глухую, ноющую тревогу.
Она шла, не глядя по сторонам, ее взгляд был прикован к белеющей вдали полосе цветов. Руки были сжаты в кулаки так сильно, что ногти впивались в ладони. В кармане она нащупывала твердые края блокнота – единственного реального предмета в этом сюрреалистическом походе. Мамин кулон холодил кожу на шее, а отцовская рубашка, казалось, пыталась удержать ее, не пустить дальше.
Вот и последний покосившийся сарай, за которым начиналась та самая невидимая граница. Виля остановилась на мгновение, переводя дыхание. Сердце колотилось так сильно, что отдавало в висках. «Я должна. Я смогу», – прошептала она, как мантру.
И сделала шаг.
В тот самый момент, когда ее нога опустилась на землю, уже поросшую первыми ромашками, мир изменился. Это было не так резко, как вчера, не так оглушительно. Скорее, как будто кто-то медленно повернул ручку настройки, и реальность стала другой.
Воздух вокруг словно уплотнился, стал тяжелее, вязким, как вода. Тишина стала глубже, почти звенящей, поглощая все мелкие, привычные звуки. Легкий утренний ветерок, который только что ласково трепал ее волосы, стих, и над полем воцарилось какое-то неестественное, напряженное безмолвие. Даже пчелы, которые обычно уже вовсю трудились над цветами, куда-то исчезли.
Легкий озноб пробежал по ее коже, несмотря на то, что солнце уже начинало пригревать. Это было не от холода. Это было… присутствие. Невидимое, неосязаемое, но абсолютно реальное. Оно ощущалось каждой клеточкой тела, каждым нервным окончанием. Поле дышало. Поле ждало.
Виля сглотнула, чувствуя, как во рту пересохло. Страх никуда не делся, он был здесь, рядом, сжимал горло ледяной хваткой. Но теперь к нему примешивалось и что-то еще – странное, почти благоговейное любопытство и отчаянная решимость дойти до конца. Она сделала еще один шаг, и еще. Ромашки под ее ногами казались мягкими и упругими, но каждый шаг отдавался в голове тяжелым, глухим ударом. Она вошла в «зону». И пути назад уже не было.
Чем дальше Виля углублялась в поле, тем сильнее менялась атмосфера вокруг. Воздух, который у границы был просто плотным и тихим, здесь, ближе к предполагаемому центру, стал ощутимо тяжелее, словно налитым свинцом. Дышать стало труднее, каждый вдох требовал усилия, будто она поднималась на большую высоту или погружалась под воду. Появилось странное ощущение духоты, не связанное с температурой – солнце еще не успело раскалить землю, но воздух казался спертым, застоявшимся, лишенным свежести.
Ей вдруг пришло на ум жуткое сравнение: будто она медленно, шаг за шагом, входит в гигантскую, приоткрытую пасть какого-то невообразимого существа. Ромашки вокруг, казавшиеся такими невинными издалека, теперь выглядели иначе – их белые лепестки словно следили за ней, а желтые сердцевинки напоминали тысячи немигающих глаз. Тишина стала почти абсолютной, настолько глубокой, что Виля слышала стук собственного сердца, как удары барабана, и шорох собственных шагов по траве казался оглушительным.
Она выбрала место, которое интуитивно показалось ей «центром» этого странного пространства – небольшую, чуть приплюснутую полянку, где ромашки росли не так густо. Оглядевшись по сторонам, она не увидела ничего необычного – все то же бескрайнее море цветов, все то же небо над головой. Но ощущение «присутствия» здесь было почти невыносимым, оно давило, обволакивало, проникало под кожу.
Дрожащими руками она сняла с плеча рюкзак, который казался сейчас непомерно тяжелым. Опустилась на землю, прямо на траву, поджав под себя ноги. Трава была влажной от росы и холодила кожу сквозь тонкую ткань джинсов. Она не стала расстилать плед, как в прошлый раз, – сейчас было не до комфорта.
Медленно, словно совершая какой-то важный ритуал, она достала из кармана синий блокнот и ручку. Пальцы плохо слушались, были холодными и какими-то деревянными. Она открыла блокнот на первой чистой странице. Белый лист казался вызывающе пустым на фоне того ужаса и напряжения, которое она испытывала.
Она сидела так несколько минут, не двигаясь, просто пытаясь привыкнуть к этой гнетущей атмосфере, к этому ощущению, что она находится под пристальным, невидимым взглядом. Сердце все еще колотилось где-то в горле, но паника немного отступила, уступив место той самой холодной, отчаянной решимости.
Виля сделала глубокий, прерывистый вдох, пытаясь успокоиться, и медленно выдохнула. Выдох получился дрожащим, но она почувствовала, как легкое напряжение отпускает ее плечи. Она была здесь. Она пришла. Теперь оставалось только ждать. Или… начать самой.
Время тянулось, как густая, вязкая патока. Солнце поднималось все выше, но здесь, в сердцевине поля, его тепло почти не ощущалось сквозь эту плотную, давящую завесу тишины и чужого присутствия. Виля сидела неподвижно, сжимая в руках блокнот и ручку так сильно, что костяшки пальцев побелели.
Она должна была заговорить. Она пришла сюда именно за этим. Но слова застревали в горле, как колючий ком. Страх, который она так старательно пыталась подавить, снова поднимал голову, ледяными щупальцами сковывая ее волю.
«Давай же», – мысленно подгоняла она себя. «Ты же решила. Ты же пришла. Нельзя сейчас струсить».
Но одно дело – принимать решение в относительной безопасности своей комнаты, и совсем другое – находиться здесь, в эпицентре этого необъяснимого ужаса, чувствуя каждой клеточкой тела это невидимое, могущественное присутствие. Воспоминания о вчерашнем голосе, о его всепроникающей силе и безмерной печали, вспыхивали в сознании, парализуя ее.
«А что, если оно не ответит? Что, если оно… разозлится?» – эти мысли, как ядовитые змеи, жалили ее. – «Что, если я скажу что-то не то? Что, если я сделаю только хуже?»
Она закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Вспомнила лицо отца, его тревожный взгляд сегодня утром. Вспомнила мамин кулон, холодящий кожу на груди, и старую отцовскую рубашку, которая должна была придавать ей смелости.
«Ради них», – прошептала она так тихо, что сама едва расслышала. «Ради них я должна».
Она представила себе, как проходят семь дней. Как ничего не происходит. Как она пытается жить обычной жизнью, зная, что обрекла всех на гибель своим молчанием, своей трусостью. Эта картина была еще страшнее, чем любой голос из-под земли.
«Просто скажи что-нибудь», – уговаривала она себя. «Любое слово. Просто начни. Это самое трудное – начать».
Она открыла глаза. Ромашковое поле все так же безмолвно взирало на нее тысячами своих желтых глаз. Тишина была почти оглушительной.
«Ну же, Виля, – мысленно она обращалась к себе, как к маленькой, напуганной девочке. – Ты же не для того сюда тащилась, чтобы просто посидеть и испугаться еще больше. Ты можешь. Ты должна».
Она сделала еще один глубокий вдох, задержала дыхание на несколько секунд, а потом медленно выдохнула, стараясь вместе с воздухом выдохнуть и часть своего страха. Руки все еще дрожали, но в груди, где-то очень глубоко, зародилось крошечное, едва заметное зернышко упрямства.
«Сейчас», – подумала она. «Или никогда».
Она облизала пересохшие губы, чувствуя их солоноватый вкус. И, собрав все остатки своей воли, заставила себя поднять голову и посмотреть прямо перед собой, в это белое, безмолвное пространство.
Глава 5. Диалог с безмолвием
Собравшись с духом, Виля прокашлялась, прочищая горло, которое сдавило от напряжения. Голос, когда она наконец заговорила, прозвучал хрипло, слабо и совершенно чужеродно в этой оглушающей тишине.
«З-здравствуй», – выдавила она, и это простое слово повисло в неподвижном, тяжелом воздухе, как одинокая пушинка. Она не знала, к кому обращается – к полю, к голосу, к неведомой сущности. Она просто сказала это в пространство, надеясь, что ее услышат.
И почти сразу же, как только звук ее голоса затих, поле отреагировало. Это был не ветер, не шорох травы. Это был глубокий, протяжный… вздох. Не такой мощный и сотрясающий, как в прошлый раз, но отчетливый, словно само поле втянуло в себя воздух и медленно выпустило его. Ромашки вокруг нее едва заметно качнулись, как будто от этого невидимого дыхания.
Виля вздрогнула, инстинктивно прижимая к себе блокнот. «Поле дышит», – промелькнула мысль, и рука сама, почти автоматически, потянулась к ручке. Дрожащими пальцами, едва попадая по буквам, она нацарапала на чистом листе: «Поле дышит. Реагирует на голос. Вздох». Записывать это казалось полным безумием, но она чувствовала, что должна фиксировать каждую деталь, какой бы странной она ни была. Это было ее единственное оружие – наблюдение.
Не успела она опустить ручку, как раздался ответ. Тот самый голос. Низкий, гулкий, вибрирующий, словно идущий из-под самой земли. Он был грубым, как будто его обладатель не говорил веками, и голосовые связки заржавели. Но главной его характеристикой по-прежнему оставалась эта всепроникающая, безмерная грусть, от которой у Вили сжималось сердце.
«Здравствуй», – произнес голос, и слово это, хоть и было ответом на ее приветствие, прозвучало не как начало диалога, а как констатация факта, как признание ее присутствия. От этого звука воздух вокруг Вили, казалось, еще больше уплотнился, стал почти осязаемым, а земля под ней едва заметно завибрировала. Ей показалось, что даже ромашки вокруг на мгновение замерли, прислушиваясь.
Виля судорожно сглотнула. Оно ответило. Оно действительно ответило. Часть ее сознания все еще отказывалась в это верить, но другая, более трезвая, понимала: это происходит наяву.
«Ты… ты меня слышишь?» – спросила она, и ее голос, хоть и дрожал, прозвучал чуть увереннее, чем в первый раз. Она смотрела прямо перед собой, на колышущиеся головки ромашек, пытаясь найти источник голоса, но он, казалось, исходил отовсюду и ниоткуда одновременно.
«Слышу», – последовал немедленный ответ, все такой же низкий и печальный. А потом, после короткой паузы, которая показалась Виле вечностью, голос добавил: «Более странно то, что ты меня слышишь, а не я тебя». В этих словах не было удивления или любопытства, скорее, все та же усталая констатация чего-то давно известного и неизбежного. И от этого Виле стало еще более не по себе. Она – странная? Почему? Что это значило?
От слов голоса по спине Вили пробежал ледяной холодок, не связанный с утренней прохладой. «Более странно то, что ты меня слышишь…» Эти слова эхом отдавались в ее сознании, порождая рой тревожных вопросов. Что с ней не так? Или, наоборот, так? Почему именно она стала той, кто способен слышать этот голос, это дыхание поля?
Ей было невероятно страшно. Каждая клеточка ее тела кричала об опасности, инстинкт самосохранения требовал немедленно вскочить и бежать без оглядки, подальше от этого проклятого места, от этого всепроникающего голоса. Но она знала – назад пути нет. Не сейчас, когда она уже начала этот диалог, когда получила подтверждение, что ее слышат. Она должна продолжать, чего бы ей это ни стоило. Блокнот в ее руках дрожал, но она крепче сжала ручку, готовясь записывать дальше.
«Кто… кто ты?» – этот вопрос сорвался с ее губ прежде, чем она успела его обдумать. Он был самым очевидным, самым насущным. Если она собирается вести переговоры, она должна знать, с кем имеет дело. Хотя бы попытаться узнать.
Тишина, последовавшая за ее вопросом, была иной, чем раньше. Она не была пустой. Она была… тяжелой, наполненной ожиданием, словно сущность обдумывала ответ. Воздух вокруг Вили, казалось, еще больше сгустился, стал почти вязким, а ромашки замерли, как будто затаив дыхание. Виля чувствовала, как по ее вискам стекают капельки пота, несмотря на утреннюю прохладу.
И вот голос ответил. На этот раз в нем прозвучали новые нотки – не только грусть и усталость, но и какая-то древняя, непостижимая мудрость, отстраненность существа, для которого человеческие мерки и понятия не имели никакого значения.
«Я могу быть кем угодно», – произнес он, и слова эти, как камни, упали в тишину. – «От бога до демона. Смотря, как ты меня воспринимаешь».
Виля замерла, пытаясь осмыслить этот ответ. Это не было ответом. Это была загадка, головоломка, от которой ее и без того смятенный разум заходил ходуном. Она судорожно пыталась записать услышанное, но пальцы не слушались, буквы получались кривыми, почти нечитаемыми.
Голос продолжал, неторопливо, веско, каждое слово отдавалось вибрацией в самой земле под ней: «Я – Хранитель этого места. Я – его суть, его дыхание, его память. Для кого-то я – бог земли, дарующий жизнь. Для других – дьявол, несущий разрушение. Для одних – злой дух, обитающий в чаще. Для других – доброе существо, шепчущее с ветром. А для некоторых… для некоторых я – сущий кошмар».
Последние слова прозвучали с такой глубиной и такой всеобъемлющей печалью, что Виля почувствовала, как по ее щекам снова текут слезы. Она не понимала, что это за существо, но его ответ пугал и одновременно вызывал странное, почти болезненное сочувствие. Хранитель. Бог. Дьявол. Сущий кошмар. Все это одновременно. Как такое возможно? И кем он был для нее? Пока что – определенно кошмаром. Но в этой печали, в этой усталости сквозило что-то… не злое. Что-то древнее, уставшее от своей вечной роли, от своего бесконечного цикла.
Она смотрела на колышущиеся ромашки, и они больше не казались ей просто цветами. Они были частью этого существа, его проявлением, его кожей. И она, Виля, сидела сейчас в самом его сердце, пытаясь говорить с тем, что было за гранью ее понимания.
Слезы высохли на ее щеках, оставляя соленые дорожки, но Виля уже не обращала на них внимания. Ответ существа, такой многоликий и неопределенный, только усилил ее отчаяние и одновременно – странную, почти безумную решимость докопаться до сути. Она смахнула слезы тыльной стороной ладони, крепче сжала ручку и, глядя прямо перед собой, в это невидимое, но ощутимое «лицо» поля, задала самый главный, самый страшный вопрос:
«Почему? Почему все умрут через семь дней?»
Ее голос дрожал, но в нем звучала стальная нотка. Она должна была знать.
Тишина, воцарившаяся после ее вопроса, была особенно гнетущей. Казалось, само время остановилось. Виля задержала дыхание, боясь пропустить хоть малейший звук, хоть намек на ответ. Сердце стучало так сильно, что, казалось, вот-вот вырвется из груди.
И голос ответил. Все так же низко, гулко, с той же неизбывной печалью, но теперь в нем появилась какая-то механистическая, почти протокольная интонация, словно он зачитывал древний, неизменный устав.
«Потому что это цикл», – произнес он, и от этого простого слова «цикл» по спине Вили пробежал холодок. – «Забирать важное – моя работа».
«Работа?» – переспросила Виля, почти не веря своим ушам. – «Кто… кто это придумал? Кто дал тебе такую работу?» Ее пальцы лихорадочно скользили по бумаге, пытаясь зафиксировать этот абсурдный, но такой жизненно важный диалог.
«Обязательно ли убивать всех?» – ее голос сорвался, в нем звучало отчаяние и мольба. – «Зачем? Какой в этом смысл?!»
Голос помолчал, словно собираясь с мыслями, или, быть может, пытаясь облечь в понятные для человеческого разума слова то, что было за гранью понимания. Воздух вокруг Вили, казалось, стал еще плотнее, он вибрировал от невысказанного, от древней, непостижимой тайны.
«Смысл…» – Голос произнес это слово так, будто пробовал его на вкус, будто само понятие смысла было для него чем-то чуждым или давно забытым. – «Смысл в том, чтобы забрать важное. Жизни… жизни – это самое важное, что есть у вас, хрупких и недолговечных. Они полны энергии, чувств, воспоминаний. Они – топливо для нового цикла, для обновления».
Виля слушала, затаив дыхание, чувствуя, как волосы на ее голове шевелятся от ужаса и одновременно от какого-то странного, почти благоговейного трепета перед этой древней, непостижимой логикой.
«Я не помню, когда и кто обязал меня делать это», – продолжал голос, и в нем отчетливо слышалась нота бесконечной усталости, словно он нес на себе груз всех веков. – «Сама Древность распорядилась когда-то, на заре времен, когда мир был еще молод и не знал вашего племени. Это стало моей работой, моим предназначением, моей сутью. Веками я делал это молча, забирая жизни у тех, кто не мог спросить «почему». Леса, звери, сама земля… все подчинялось этому циклу».
Он сделал паузу, и Виле показалось, что она слышит, как где-то глубоко под землей ворочаются гигантские, невидимые механизмы этого древнего порядка.
«Но потом… потом пришли люди», – в голосе появилась новая, почти человеческая интонация – глубокая, вселенская печаль, от которой у Вили снова навернулись слезы. – «Всего несколько тысяч оборотов земли вокруг солнца назад. Это так недавно по моим меркам… С вами я научился говорить. Ваши мысли, ваши чувства… они такие яркие, такие… сложные. И с вами… с вами стало гораздо грустнее выполнять мою работу. Слышать ваши вопросы, видеть ваш страх, чувствовать вашу боль… Это… усложняет. Но цикл должен быть завершен. Таков порядок. Иначе… иначе все угаснет по-настоящему. Навсегда».
От этих слов Виле стало не по себе. Существо, говорящее с ней, было не просто бездушной машиной смерти. Оно было древним, уставшим исполнителем воли, которую оно само уже не помнило, кто на него возложил. Оно было свидетелем зарождения и угасания миров, и теперь оно столкнулось с человечеством, с его способностью чувствовать и спрашивать, и это приносило ему… печаль? Боль?
Картина, нарисованная голосом, была грандиозной и ужасающей. Древний цикл, обновление через смерть, и существо, запертое в этом цикле, вынужденное выполнять свою страшную работу, даже если оно само от этого страдает. И теперь этот цикл должен был коснуться их маленького поселка.
«Осталось… осталось шесть дней», – прошептала Виля, и цифра эта, такая маленькая, такая неотвратимая, прозвучала как обратный отсчет до конца света. Ее рука с блокнотом безвольно опустилась на колени. Информация, полученная от голоса, была слишком огромной, слишком чудовищной, чтобы ее можно было просто записать и забыть. Она давила, душила, лишала последней надежды.
«Да», – подтвердил голос, и в этом коротком, лишенном эмоций слове слышалась вся тяжесть неизбежности. – «Шесть оборотов земли вокруг своей оси. А потом… мне придется». В этих словах не было угрозы, не было злорадства. Только констатация факта, как если бы он говорил о смене погоды или о наступлении ночи. И от этой обыденности становилось еще страшнее.
Виля подняла голову. В ее глазах, еще влажных от слез, застыло отчаяние, но в нем уже пробивался росток какой-то безумной, последней надежды. Если это «работа», если это «цикл», то, может быть… может быть, есть какие-то правила? Какие-то лазейки?
«А… а можно ли… можно ли как-то перенести цикл?» – спросила она, и голос ее дрогнул от собственной смелости. – «Отложить? Изменить?» Она не знала, на что надеется, но молчать было невыносимо.
Голос помолчал, и в этой паузе Виле показалось, что она слышит, как само время замирает, как взвешиваются на невидимых весах судьбы ее маленького поселка.
«Перенести…» – Голос произнес это слово так, словно пробовал его на вкус, словно это было что-то новое, что-то, о чем он раньше не задумывался. Или, наоборот, что-то, что было предусмотрено в этом древнем, непостижимом уставе. – «Цикл можно… отсрочить. Не отменить. Но отсрочить. На один оборот. На сто пятьдесят ваших лет».
Сто пятьдесят лет! Эта цифра, по сравнению с шестью днями, казалась вечностью. У Вили перехватило дыхание. Надежда, хрупкая, как крыло бабочки, затрепетала в ее груди.
«Но… как?» – выдохнула она, боясь поверить. – «Что для этого нужно?»
Ответ голоса прозвучал так же спокойно и неотвратимо, как и все, что он говорил до этого. Но в нем была скрыта какая-то новая, почти нечеловеческая логика, от которой у Вили по спине снова пробежал холодок.
«Только если ты отдашь мне что-то важнее жизни», – произнес он, и слова эти, простые и страшные, повисли в неподвижном воздухе. – «Что-то, что по своей ценности, по своей сути, сможет заменить ту энергию, которую я должен собрать. Что-то, что сможет насытить цикл, позволив ему завершиться и уснуть… на время».
«Что-то важнее жизни…» – Виля беззвучно повторила эти слова. Она смотрела на свои руки, на блокнот, на колышущиеся ромашки, и в голове ее царил полный хаос.