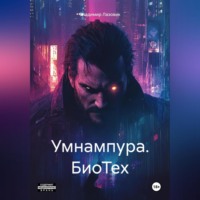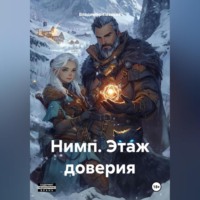Полная версия
Ромашковое поле
Или… или она может скинуть аудиофайл Ане. Ее лучшей подруге из старого города, с которой они продолжали переписываться и иногда созваниваться. Аня была девушкой приземленной, немного циничной, но с хорошим чувством юмора. Ей можно было бы сказать то же самое – про нового препода с «офигенным баритоном». И если Аня, которая ничего не знала о ее переживаниях, о поле, о голосе, тоже услышит его… тогда сомнений не останется.
Эта мысль, эта возможность получить независимое подтверждение (или опровержение) немного успокоила Вилю. Это был конкретный, выполнимый план. Рискованный, конечно. А вдруг отец или Аня заподозрят что-то? А вдруг они начнут задавать неудобные вопросы? Но это был риск, на который она готова была пойти. Потому что неизвестность, сомнения в собственном рассудке были еще страшнее.
Завтра. Завтра она все проверит. Она подготовит телефон, зарядит его до упора. Она продумает вопросы для сущности. И она пойдет на это поле, вооружившись не только блокнотом и ручкой, но и своим маленьким электронным свидетелем.
И пусть этот свидетель вынесет свой вердикт. Реален ли ее кошмар, или он – всего лишь игра ее собственного, сломленного разума.
От этой мысли у нее снова засосало под ложечкой, но теперь к страху примешивалось и какое-то лихорадочное, почти болезненное нетерпение. Она хотела знать. Она должна была знать. Как можно скорее.
Прежде чем лечь спать, Виля еще раз подошла к окну. Лунный свет заливал двор и далекое поле, придавая ему призрачный, серебристый оттенок. Ромашки казались белыми тенями, колышущимися в ночной тишине. Поле было на месте. Никуда оно не делось. И от этого становилось только хуже.
«Господи, лишь бы оно просто пропало», – прошептала она, прижимаясь лбом к холодному стеклу. – «Растворилось, исчезло, провалилось под землю. Вместе со своим голосом, со своими циклами, со своими дурацкими условиями». Она так устала от этого всего. Так устала бояться.
Но оно не пропадало. И завтра ей снова предстояло идти туда. Снова смотреть в лицо своему страху, снова говорить с этой непостижимой, древней сущностью.
И все же…
Несмотря на весь этот ужас, на эту гнетущую неопределенность, на мысли о возможном собственном безумии, где-то в глубине души Виля чувствовала… нечто похожее на гордость. Робкую, едва заметную, но гордость.
Она боялась. Да, черт возьми, она боялась до дрожи в коленках, до тошноты, до желания забиться под одеяло и никогда оттуда не вылезать. Каждый поход на это поле был для нее пыткой. Каждое слово, сказанное голосом, отзывалось в ней ледяным эхом.
Но она действовала.
Она не сидела сложа руки, не плакала целыми днями, не погружалась в апатию, хотя имела на это полное право. Она думала, она анализировала, она строила планы. Она разговаривала с отцом. Она собиралась снова идти на поле, чтобы проверить свою самую страшную догадку. Она искала выход, даже когда казалось, что его нет.
«Я молодец», – подумала она, и на губах ее мелькнула слабая, чуть кривоватая улыбка. Она даже похвалила себя мысленно. Это было так не похоже на нее прежнюю, ту, что месяцами не выходила из комнаты, оплакивая маму и свою разрушенную жизнь.
«Это не бесстрашие», – тут же поправила она себя. Называть это бесстрашием было бы ложью. Она не была бесстрашной. Она была напугана до смерти. Но, как говорила когда-то мама, цитируя какую-то книгу: «Смелость – это не отсутствие страха, а способность действовать, несмотря на него».
И Виля действовала. Шаг за шагом. Неуверенно, спотыкаясь, сомневаясь, но действовала. И это, пожалуй, было самым важным.
Эта мысль немного согрела ее. Да, ей было страшно. Но она не была одна в этой борьбе. С ней была ее решимость. С ней была память о маме. С ней была любовь к отцу. И, как ни странно, с ней была эта странная, почти извращенная гордость за то, что она не сдается.
С этой мыслью она легла в постель. Завтра будет трудный день. Возможно, самый трудный в ее жизни. Но она встретит его. И она будет действовать. Несмотря ни на что.
Глава 7. Электронный свидетель и пять ударов сердца
Рассвет не крался в комнату Вили мягкими, акварельными мазками, как это бывает в безмятежные летние утра. Он ворвался резким, холодным светом, словно кто-то внезапно распахнул дверь в темный чулан, застав врасплох его обитателя. Виля не проснулась – ее выдернуло из сна, как рыбу из воды, с бешено колотящимся сердцем и пересохшим горлом. Сон был обрывчатым, липким, полным шепотов и теней, в которых угадывались очертания ромашкового поля, но на этот раз оно было не просто печальным, а каким-то злорадно выжидающим.
Первая осознанная мысль, ударившая в голову с силой набата: «Пять дней». Не «сегодня новый день», не «что на завтрак», а именно это – «пять дней». Пять ударов сердца до неизвестности. Пять шагов до пропасти. От этой мысли волна тошноты подкатила к горлу, а ладони мгновенно вспотели.
Мандраж. Это было не просто волнение, не обычный страх. Это был лихорадочный, изматывающий мандраж, который поселился в ней со вчерашнего вечера и теперь, с наступлением нового дня, только усилился. Он вибрировал в каждой клеточке ее тела, заставлял мышцы подрагивать, а дыхание – сбиваться. Казалось, сам воздух в комнате был заряжен этим напряжением, этой неотвратимостью.
Сегодня она снова шла на поле. Второй раз – осознанно, с целью, с планом. И этот второй раз был, пожалуй, страшнее первого. Тогда, после первого шока, ею двигало отчаяние и желание хоть что-то понять. Сегодня же она шла не просто за ответами, а за подтверждением. Подтверждением либо реальности чудовищной угрозы, либо собственного, не менее чудовищного, безумия. И неизвестно, что из этого было хуже.
«Нужно быть уверенной, что это все взаправду», – эта мысль была ее единственным ориентиром в бушующем море страха. Ради этого она и шла. Ради того, чтобы либо сбросить с себя этот невыносимый груз сомнений в собственном рассудке, либо… либо окончательно убедиться, что мир сошел с ума, или, по крайней мере, та его часть, которая окружала ее.
Она села на кровати, заставила себя сделать несколько глубоких вдохов, хотя легкие, казалось, сжались и отказывались принимать воздух. Обычные утренние ритуалы – умыться, почистить зубы, одеться – проходили как в тумане, на автомате. Ее руки двигались, но мысли были далеко, там, на поле, рядом с тем, кто или что ждало ее.
Она не стала надевать отцовскую рубашку. Сегодня ей нужен был не символический доспех, а холодная, расчетливая сосредоточенность. Она выбрала простую темную футболку и старые джинсы. Ничего лишнего.
На столе ее ждали три предмета, три ее «оружия»: синий блокнот, знакомая шариковая ручка и… телефон. Она взяла его в руки, чувствуя холодный, гладкий пластик. Проверила заряд батареи – почти полный. Открыла приложение диктофона, убедилась, что оно работает. Этот маленький электронный прибор казался ей сейчас одновременно и спасательным кругом, и бомбой замедленного действия. Он мог либо оправдать ее, либо окончательно уничтожить.
Засунув блокнот и ручку в задний карман джинсов, а телефон – в передний, поближе, чтобы можно было незаметно включить запись, она сделала последний глубокий вдох. Волнение никуда не делось, оно все так же скручивало внутренности ледяным жгутом. Но поверх него, как тонкая пленка льда на бурной воде, легла эта отчаянная, почти клиническая решимость исследователя, идущего на рискованный эксперимент.
Осталось пять дней. И сегодня она должна была получить ответ на самый главный вопрос.
Пока Виля шла по утреннему, еще сонному поселку, ее шаги отдавались глухим стуком в почти абсолютной тишине. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта, окрашивая крыши домов и верхушки деревьев в нежно-золотистый цвет, но эта умиротворяющая картина не находила никакого отклика в ее душе. Все ее мысли были поглощены предстоящим испытанием и тем, что оно могло значить.
«Хоть бы это была шизофрения», – эта мысль, такая дикая и страшная еще вчера, сегодня казалась почти… желанной. Она повторяла ее про себя, как молитву, как заклинание. «Или другая какая-нибудь болезнь. Что угодно, только бы не этот голос, не этот цикл, не эта угроза».
Если бы оказалось, что все это – лишь плод ее больного воображения, то проблема, какой бы ужасной она ни казалась на первый взгляд, была бы… проще. Да, именно так. Проще. Потому что она была бы понятной, человеческой, имеющей решение.
Она представляла себе этот сценарий. Она возвращается с поля, прослушивает запись на диктофоне – и там только тишина, прерываемая ее собственным дрожащим голосом. Она плачет, да. Плачет от ужаса осознания, что с ней что-то не так. Но потом… потом она собирается с силами. Она идет к отцу. Садится напротив него и, глядя ему в глаза, говорит: «Папа, мне кажется, я схожу с ума. Я слышу то, чего нет. Мне нужна помощь».
Это было бы невероятно трудно. Стыдно. Больно. Но это был бы путь. Понятный путь. Отец бы, конечно, испугался, расстроился. Но он бы не отвернулся. Он бы нашел врачей. Началось бы лечение. Психотерапия. Разговоры, таблетки, может быть, даже больница. Это было бы долго, мучительно, но это был бы путь к выздоровлению. К возвращению в нормальную жизнь. Или хотя бы к попытке вернуться.
В этом сценарии не было бы вселенского ужаса, не было бы ответственности за жизни сотен людей, не было бы необходимости искать «что-то важнее жизни» или приносить себя в жертву. Была бы только ее личная, пусть и страшная, но понятная болезнь, с которой можно и нужно бороться.
Она шла, и эта мысль – о болезни как о «меньшем зле» – становилась все навязчивее. Это было бы так… просто. По сравнению с тем, что она переживала сейчас. По сравнению с тем, что могло ждать ее, если голос окажется реальным.
Да, она боялась психиатрических диагнозов, боялась больниц, боялась осуждения. Но все это меркло перед лицом той древней, непостижимой угрозы, которая нависла над ними. Если бы ей предложили выбор – безумие или реальность говорящего поля, – она, не колеблясь, выбрала бы первое. Потому что с безумием можно бороться. А как бороться с древним циклом, который требует жертв?
Эта странная, извращенная надежда на собственную болезнь придавала ей какую-то мрачную решимость. Она шла на поле не только чтобы подтвердить или опровергнуть реальность голоса, но и чтобы, возможно, получить… облегчение. Облегчение от осознания, что мир не сошел с ума, а просто она сама немного… не в порядке.
И чем ближе она подходила к полю, тем сильнее становилась эта надежда. Пусть диктофон запишет тишину. Пожалуйста. Пусть это будет просто ее воспаленный мозг. Пожалуйста. Это было бы страшно. Но это было бы… проще. Намного проще.
Знакомая невидимая граница была пройдена. Воздух снова уплотнился, тишина стала почти материальной, а ощущение чужого, всевидящего присутствия окутало Вилю, как плотный туман. Она дошла до той же самой полянки, где разговаривала с голосом в прошлый раз. Сердце колотилось где-то в горле, отдавая глухими ударами в висках, но она старалась дышать ровно, глубоко, пытаясь сохранить остатки самообладания.
Она опустилась на траву, скрестив ноги. Дрожащими пальцами достала из кармана телефон, разблокировала экран, нашла приложение диктофона. Секунду помедлив, она нажала на красную кнопку записи. Счетчик времени побежал, фиксируя каждую долю секунды этой напряженной, почти невыносимой тишины. Она аккуратно положила телефон на траву рядом с собой, экраном вниз, микрофоном в сторону предполагаемого «центра» поля. Затем достала блокнот и ручку, хотя не была уверена, что сможет что-то записать – руки тряслись так сильно, что она едва удерживала предметы.
«З-здравствуй», – голос Вили прозвучал слабо, срываясь от волнения. Она откашлялась, попыталась снова, чуть громче: «Здравствуй!»
И поле ответило.
На этот раз это был не тихий, печальный вздох. Это был мощный, почти оглушительный выдох, словно кто-то гигантский с силой выпустил воздух из огромных легких. Этот выдох пронесся над полем, как ударная волна, заставив все ромашки вокруг Вили низко, почти до земли, склониться в едином порыве. Виля инстинктивно вжалась в землю, закрыв глаза, чувствуя, как этот невидимый поток воздуха треплет ее волосы, как он давит на барабанные перепонки. Это длилось всего мгновение, но в это мгновение ей показалось, что сама земля содрогнулась под ней.
Когда все стихло, и ромашки медленно, неохотно начали выпрямляться, раздался голос. Низкий, гулкий, все такой же печальный, но теперь в нем, как показалось Виле, слышалась и какая-то… деловитость.
«Ты пришла», – это была не вопрос, а констатация. Словно он и не сомневался, что она вернется.
Виля сглотнула, пытаясь унять дрожь. Она посмотрела на телефон, лежащий на траве. Записывает. Пожалуйста, пусть он все это записывает.
«Принесла что-нибудь?» – продолжил голос, и в этом вопросе не было ни жадности, ни нетерпения. Скорее, это была часть какого-то установленного ритуала, протокола.
«Нет», – коротко ответила Виля. Ее голос все еще дрожал, но она старалась говорить четко. Сейчас не время для торга или уговоров. Сейчас время для сбора информации. И для проверки. – «Я… я хотела спросить. Расскажи… расскажи, как это происходит? Как… как умирают все в цикле?» Она сама не знала, зачем задала этот вопрос. Может быть, чтобы заполнить тишину. Может быть, чтобы услышать больше этого голоса, чтобы дать диктофону больше материала. А может быть, потому что ей действительно было страшно и важно это знать.
Голос помолчал, словно обдумывая ее вопрос. Виля чувствовала, как по ее спине стекает холодный пот.
«В цикле нет противоестественности», – наконец произнес он, и слова эти, такие спокойные и отстраненные, прозвучали особенно жутко. – «Нет огня с небес или демонов из преисподней, как вы, люди, иногда себе представляете. Все гораздо… проще. Обычнее».
Он сделал паузу, и Виля почти физически ощутила, как надвигается что-то страшное, неотвратимое.
«Это землетрясение», – продолжил голос, и от этого слова у Вили все внутри похолодело. – «Мощное, разрушительное. Оно хоронит под собой все живое. Дома, деревья, людей, зверей. Земля раскрывается и поглощает. А потом… потом на этом месте надолго воцаряется тишина. И начинается новый отсчет».
Землетрясение. Так вот как это должно было случиться. Не какая-то мистическая кара, а слепая, безжалостная стихия.
«На этот раз… этот поселок», – голос говорил все так же монотонно, без всяких эмоций. – «Он молодой, по моим меркам. Всего несколько ваших поколений. Раньше здесь, неподалеку, жили другие люди. В другой такой же деревне. Их цикл завершился давно. Теперь очередь этого места».
Виля слушала, и перед ее глазами вставали страшные картины: рушащиеся дома, крики людей, разверзающаяся земля… Это было слишком реально, слишком… возможно. Она больше не могла.
«Спасибо», – прошептала она, перебивая голос. Говорить было невыносимо трудно, горло сдавило спазмом. – «Этого… этого достаточно».
Она не стала дожидаться ответа. Резко поднялась на ноги, схватила телефон с травы, сунула его в карман вместе с блокнотом, который так и остался почти пустым. И, не оглядываясь, почти бегом, бросилась прочь, к границе поля, к спасительной черте, за которой, как ей казалось, кончался этот кошмар.
Она бежала, спотыкаясь, задыхаясь, не чувствуя под собой ног. И только когда она вырвалась из поля, когда снова оказалась на обычной, твердой земле своего двора, она остановилась, согнувшись пополам, пытаясь отдышаться.
И только тогда она заметила, как сильно у нее дрожат руки. Они тряслись так, что она едва могла сжать их в кулаки. Это была не просто дрожь от страха. Это была дрожь от осознания. От осознания того, что она только что услышала. И от того, что теперь у нее, возможно, есть доказательство. Доказательство, которое могло либо спасти ее, либо окончательно уничтожить.
Влетев в дом, Виля не стала даже разуваться. Она пронеслась мимо кухни, где отец, судя по запахам, уже начал готовить обед, и пулей взлетела по лестнице в свою комнату. Дверь захлопнулась за ней с такой силой, что, наверное, задребезжали стекла. Но ей было все равно.
Она рухнула на кровать, тяжело дыша, сердце колотилось как сумасшедшее. Телефон в руке был горячим и влажным от ее вспотевшей ладони. Дрожащими пальцами она нашла в меню диктофон, открыла список записей. Вот она, последняя. Несколько минут ужаса, зафиксированные в цифровом формате.
Секунду она колебалась. А вдруг там ничего нет? А вдруг она сейчас нажмет на «play» – и услышит только свой собственный голос, прерываемый тишиной или шорохом ветра? Эта мысль была настолько страшной, что она почти передумала.
Но нет. Она должна была знать.
Зажмурившись, словно перед прыжком в ледяную воду, Виля нажала на значок воспроизведения. Приложила телефон к уху, затаив дыхание.
Сначала – тишина. Потом – ее собственный голос, слабый, неуверенный: «З-здравствуй… Здравствуй!» Она слышала, как дрожит ее голос, как она откашливается. Потом – резкий, оглушительный звук, похожий на рев или мощный порыв ветра. Ударная волна. Она помнила это ощущение, как будто это было только что. Ее сердце сжалось.
И потом… потом раздался он. Голос. Низкий, гулкий, печальный. «Ты пришла».
Виля открыла глаза. Она сидела на кровати, широко раскрыв глаза, и слушала. Голос был там. На записи. Таким же отчетливым, таким же реальным, как и на поле. Он отвечал на ее вопросы. Он говорил о цикле, о землетрясении, о предыдущей деревне. Каждое его слово, каждая интонация – все было зафиксировано.
Она дослушала запись до конца, до своего испуганного «спасибо» и звука удаляющихся шагов. Когда запись закончилась, и в комнате снова воцарилась тишина, Виля долго сидела неподвижно, глядя перед собой невидящим взглядом.
И ее накрыло.
С одной стороны, это было… облегчение. Странное, почти извращенное, но облегчение. Она не сумасшедшая. Она не придумала этот голос. Он реален. То, что она слышала, то, что она переживала, – это не плод ее больного воображения. Это правда. Часть ее, которая так отчаянно боялась собственного безумия, вздохнула с каким-то горьким удовлетворением. Она не сошла с ума.
Но одновременно с этим облегчением на нее обрушилась новая, еще более тяжелая волна отчаяния. Если голос реален… значит, реальна и угроза. Значит, все это – цикл, землетрясение, семь (а теперь уже пять) дней – это не бред, а чудовищная правда. И теперь у нее есть доказательство. Доказательство того, что они все обречены.
Она снова и снова прокручивала в голове слова голоса, теперь уже подтвержденные записью. «Землетрясение… хоронит под собой все живое… На этот раз этот поселок…» От этих слов кровь стыла в жилах. Это было так… буднично, так неотвратимо.
Радость от того, что она не сумасшедшая, быстро сменилась ужасом от осознания реальности происходящего. Это была не та правда, которую она хотела услышать. Это была правда, которая не оставляла места для сомнений, для надежды на ошибку.
Она отложила телефон, чувствуя, как по щекам текут слезы. Но это были уже не слезы страха или отчаяния. Это были слезы… бессилия. Бессилия перед этой древней, непостижимой силой, которая решила поиграть в свои страшные игры с их маленьким, ничего не подозревающим мирком.
Что теперь? У нее есть доказательство. Но что оно ей дает? Кому она его покажет? Отцу? Ане? И что они скажут? Даже если они услышат голос, поверят ли они в то, что он говорит? Или решат, что это какой-то розыгрыш, какая-то мистификация?
И самое главное – что теперь делать ей? Поиски «чего-то важнее жизни» теперь приобретали еще большую, еще более отчаянную актуальность. Потому что теперь она знала наверняка: это не игра. Это – вопрос жизни и смерти. Ее собственной. И всех остальных.
Пять дней. И реальный, записанный на диктофон голос, который отсчитывал эти дни с безжалостной точностью. Виля закрыла лицо руками. Ей было очень, очень страшно. Но теперь она знала, что ее страх – не выдумка. И это, как ни странно, придавало ей какую-то новую, мрачную силу. Силу бороться. До конца.
После того как первый шок от прослушивания записи немного улегся, Виля снова взяла телефон. В голове ее уже зрел план. Ей нужно было независимое подтверждение. Отец – это слишком близко, он мог бы списать все на ее состояние, даже если бы услышал голос. А вот Аня… Аня была далеко, она не знала всех этих местных ужасов, и ее мнение было бы более объективным.
Она открыла аудиоредактор на телефоне – простое приложение, которым она иногда пользовалась, чтобы обрезать песни для рингтонов. Аккуратно, стараясь не удалить ничего лишнего, она вырезала из записи тот фрагмент, где говорил только голос. Тот самый, где он рассказывал о землетрясении, о цикле, о предыдущей деревне. Без ее собственных реплик, без ее испуганных вздохов, без звука ее шагов. Только этот низкий, гулкий, печальный голос.
Прослушав обрезанный фрагмент несколько раз, Виля осталась довольна. Да, это вполне могло сойти за отрывок из какой-нибудь лекции по истории или антропологии, если не знать контекста. Голос был необычным, завораживающим, но вполне человеческим, если не прислушиваться слишком внимательно к его сверхъестественным вибрациям.
Она открыла мессенджер, нашла чат с Аней. Сердце снова заколотилось. Это был важный момент. Она набрала короткое сообщение:
«Привет! Слушай, у нас тут новый препод по одному предмету на дистанционке. Голос у него – просто отвал башки, такой баритон глубокий. Записала кусочек лекции, чисто поржать, как он вещает. Зацени, как тебе? Только не обращай внимания на содержание, он там какую-то дичь про древние поселения рассказывает».
Прикрепила аудиофайл. Нажала «отправить».
Все. Теперь оставалось только ждать.
Виля отложила телефон, но взгляд ее то и дело возвращался к экрану, ожидая уведомления. Часы тянулись мучительно медленно. Она пыталась чем-то заняться – почитать, порисовать, – но мысли ее были далеко. Она снова и снова прокручивала в голове возможные варианты ответа Ани. Что, если она ничего не услышит? Что, если она скажет, что это просто шум или помехи? Что, если она вообще не ответит?
Отец позвал ее обедать, потом ужинать. Она ела механически, почти не чувствуя вкуса еды, отвечала на его вопросы невпопад, вся погруженная в свои тревожные ожидания. Он смотрел на нее с беспокойством, но она только отмахивалась, ссылаясь на усталость.
Вечер сменился ночью. Аня так и не ответила. Может быть, она занята. Может быть, у нее проблемы с интернетом. Может быть, она просто еще не видела сообщения. Виля старалась успокоить себя этими мыслями, но тревога не отпускала.
Когда за окном стало совсем темно, и только луна тускло освещала комнату, Виля поняла, что больше не может ждать. Она была измотана – физически и морально. Глаза слипались, но мозг отказывался отключаться, продолжая лихорадочно перебирать варианты.
Она легла в постель, не раздеваясь, просто накрылась одеялом. Телефон лежал рядом, на подушке, экраном вверх. Она смотрела на него до тех пор, пока веки не стали совсем тяжелыми.
«Пожалуйста, Аня, ответь», – прошептала она в темноту. – «Пожалуйста, скажи, что ты тоже это слышишь».
Едва голова Вили коснулась подушки, как ее утащило в сон – но это был не тот благословенный отдых, которого так жаждало ее измученное тело. Это был липкий, тягучий кошмар, сотканный из обрывков ее страхов и тревог, причудливо переплетенных с образами недавних событий.
Сначала она снова оказалась на ромашковом поле. Но оно было другим – не залитым солнцем и не окутанным ночной мглой, а погруженным в какой-то багровый, тревожный сумрак, словно от вечного заката или далекого пожара. Ромашки были гигантскими, выше ее роста, и их белые лепестки были острыми, как лезвия, а желтые сердцевинки смотрели на нее с немым укором, превращаясь то в глаза отца, полные боли, то в пустые глазницы черепов.
Она пыталась бежать, но ноги вязли в земле, которая была не твердой почвой, а какой-то трясиной, засасывающей ее все глубже и глубже. Низкий голос, тот самый, что она слышала наяву, теперь звучал отовсюду, но он не говорил, а смеялся – глухим, утробным, бесконечно печальным смехом, от которого стыла кровь в жилах. «Важнее жизни… важнее жизни…» – этот смех отдавался в ее голове, искажаясь, превращаясь в издевку.
Потом картинка сменилась. Она оказалась в своей комнате, но стены ее сжимались, потолок опускался, превращая убежище в тесную, душную коробку. Она пыталась кричать, звать на помощь, но из горла не вырывалось ни звука, словно ее лишили голоса. А за окном, вместо привычного пейзажа, было только это багровое небо и колышущиеся силуэты гигантских, хищных ромашек.