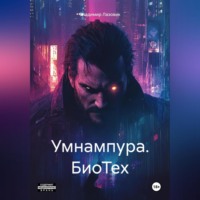Полная версия
Ромашковое поле
«Оставить все как есть?» – прошептала она. Сделать вид, что ничего не было. Забыть. Спрятать рисунок подальше, запереть этот кошмар в себе. Пусть идет как идет. Ведь она ничего не может сделать, правда? Кто она такая, чтобы противостоять чему-то, что способно выдыхать с силой урагана и предрекать смерть целому поселку?
Но тут же ее начала грызть совесть. Маленький, но настойчивый червячок сомнения и ответственности. «Я не могу. Я не позволю себе этого». Хоть она и не знала никого в этом поселке, кроме своего отца, но там были люди. Живые люди. Дети, старики, семьи. Они ничего не подозревали, жили своей обычной жизнью, а над ними уже навис этот смертный приговор. И она – единственная, кто об этом знает. Если это правда… если это не плод ее больного воображения… то молчать – значит стать соучастницей. Значит, позволить этому случиться.
Эта мысль была невыносима. Она не могла просто сидеть сложа руки и ждать, когда через семь дней случится что-то ужасное. Даже если шанс, что ей все это привиделось, был велик. А что, если нет? Что, если это реальная угроза?
«Боже, как же страшно…» – Виля снова подошла к окну, но на этот раз не смотрела на поле. Она видела лишь свое бледное, испуганное отражение в стекле. Борьба внутри нее разгоралась с новой силой. С одной стороны – инстинкт самосохранения, желание спрятаться, убежать, забыть. С другой – это проклятое чувство ответственности, это «а что, если?», которое не давало покоя.
Что делать? Рассказать отцу? Он не поверит. Посчитает, что она окончательно тронулась умом. Обратиться в полицию? Ее поднимут на смех. «Девушка, вам бы к доктору». Кто поверит в говорящее поле, предрекающее конец света через неделю?
Значит, если что-то и делать, то делать это придется ей одной. Но что? Как можно отговорить неведомую сущность, если ты даже не знаешь, что это такое? Как можно бороться с тем, чего не понимаешь?
Страх парализовывал, но одновременно с ним росло и какое-то отчаянное упрямство. Она не могла просто сдаться. Она должна хотя бы попытаться. Что-то сделать. Что-то выяснить. Даже если это будет стоить ей последних остатков душевного спокойствия. Даже если это снова приведет ее на то проклятое поле.
Решение медленно, мучительно, но все же начало вызревать в ее душе. Она не знала, что будет делать. Но она знала, что не сможет просто сидеть и ждать.
Мысль о том, чтобы рассказать отцу, мелькнула и тут же погасла, как слабая искра под дождем. Олег, при всей своей любви и терпении, был человеком прагматичным, стоящим обеими ногами на земле. Он видел, как тяжело Виля переживает смерть матери, как она замкнулась, как отдалилась от мира. Если она придет к нему с рассказом о говорящем поле, которое обещает всех уничтожить, он, скорее всего, решит, что это очередной, самый тревожный симптом ее депрессии. Он не высмеет ее, нет, он слишком тактичен для этого. Но он посмотрит на нее с такой смесью беспокойства и жалости, что Виле станет еще хуже. Он начнет уговаривать ее пойти к психологу, может быть, даже к психиатру. И она не сможет его винить. Ведь со стороны это действительно звучало бы как бред сумасшедшего.
Найти друга, чтобы поделиться? Эта идея была еще более абсурдной. Она здесь всего ничего, ни с кем толком не знакома, да и не стремилась к этому. В ее состоянии заводить новые знакомства было последним, чего ей хотелось. И потом, это было бы слишком… по-книжному. В фильмах и романах у героев всегда вовремя появляется верный друг или мудрый наставник, готовый выслушать самую невероятную историю и помочь. Но так в жизни не работает. В жизни, когда ты сталкиваешься с чем-то подобным, ты, как правило, остаешься один на один со своим ужасом и недоверием окружающих.
Нет, если что-то и делать, то делать это придется ей самой. И, судя по всему, единственный способ что-то выяснить – это вернуться туда. На поле.
При этой мысли желудок снова скрутило от страха. Воспоминания о низком голосе и леденящем душу выдохе были слишком яркими. Но что еще ей оставалось? Сидеть и ждать, пока пройдут семь дней? Смотреть, как ее отец, ничего не подозревая, готовит завтраки и читает свои «Зареченские Вести», пока над ним, над ними всеми, нависает эта невидимая угроза? Нет. Она не сможет.
Но и бежать туда сломя голову, как она сделала вчера в панике, было бы верхом глупости. «Сразу побежит только идиот», – эта мысль прозвучала в ее голове на удивление трезво и холодно. Если там действительно обитает что-то могущественное и недружелюбное, то неподготовленное вторжение может закончиться очень плохо. Она уже испытала на себе его… недовольство? Печаль? Что бы это ни было, оно было способно напугать до полусмерти.
Значит, нужно подготовиться.
Эта мысль стала спасительным якорем в бушующем море страха и растерянности. Подготовиться. Это звучало разумно. Это давало ей хоть какой-то план, хоть какую-то иллюзию контроля над ситуацией.
Но как подготовиться к встрече с неведомым? Что она вообще могла сделать?
Первое, что пришло в голову, – информация. Может быть, в этом поселке есть какие-то легенды, связанные с этим полем? Какие-то старые истории, которые могли бы пролить свет на природу этой сущности? Нужно будет как-то разузнать, может, в местной библиотеке, если таковая имеется, или осторожно поспрашивать у кого-то из старожилов, если ей удастся найти подход.
Второе – время. Когда лучше идти? Утром, как вчера? Или, может, под вечер, когда солнце уже не такое яркое, но еще не темно? Или выбрать какой-то определенный день? Голос сказал «через семь дней». Может, есть какая-то цикличность?
Третье – что взять с собой? Альбом и карандаши вчера не помогли, скорее наоборот, привлекли внимание. Нужно ли ей какое-то оружие? Глупости. Против такого голоса не поможет никакой нож или палка. Может, что-то… символическое? То, что придаст ей смелости? Или диктофон, чтобы записать голос, если он снова заговорит? Чтобы иметь доказательства, хотя бы для самой себя.
И самое главное – ей нужно было собраться с духом. Преодолеть этот парализующий страх. Она не знала, как это сделать, но понимала, что без этого все остальные приготовления будут бессмысленны.
Да, она пойдет туда снова. Но не сейчас. Не сегодня. Она даст себе время. Время подумать, время собраться, время подготовиться. Пусть это будет звучать смешно – подготовка к разговору с полем, – но это было единственное, что она могла сейчас сделать, чтобы не сойти с ума от страха и беспомощности. Желание подготовиться, составить хоть какой-то план, стало ее маленькой, но важной победой над паникой.
Первым делом, после того как первоначальный шок немного утих, уступив место этой лихорадочной решимости «подготовиться», Виля подошла к своему столу. Среди разбросанных тетрадей и альбомов она отыскала совершенно новый, еще не тронутый блокнот в твердой синей обложке. Его страницы были девственно чистыми, гладкими, пахнущими свежей типографской краской. Она взяла его в руки, ощущая приятную тяжесть.
«Блокнот», – подумала она, и эта простая мысль показалась ей невероятно важной. Если она снова пойдет на поле, и если… если эта сущность снова заговорит, ей нужно будет записывать. Каждое слово. Каждую деталь. Вчерашний ужас стер из памяти многие нюансы, оставив лишь общую картину страха и эти страшные слова о семи днях. А вдруг там было что-то еще? Какая-то подсказка, какой-то намек, который она упустила в панике?
«А вдруг оно говорит без остановки?» – эта мысль заставила ее нервно сглотнуть. Что, если это будет не просто короткая фраза, а целый монолог, поток сознания неведомого существа? Тогда каждая секунда будет на счету, и полагаться только на память – глупо. Блокнот и ручка – вот ее инструменты. Как у настоящего исследователя, только объектом исследования будет не какая-нибудь редкая бабочка, а говорящее поле, предрекающее апокалипсис. От этой мысли ей стало одновременно и страшно, и немного истерически смешно.
Но тут же возник новый, еще более сложный вопрос: «А можно ли с ней… с ним… с этим… общаться?» Вчера она в ужасе крикнула «Что жалко? Кого жалко?», но ответа не последовало. Или она его просто не услышала, убегая сломя голову? Было ли это односторонним заявлением, или возможен диалог?
Эта мысль повергла ее в еще большее смятение. Если диалог возможен, то как его вести? Кричать, как вчера? Но ее тонкий, испуганный голос потонет в этом низком, гулком тембре. «Мне что, мегафон где-то раздобыть? Или старый дедовский рупор, как у глашатаев на ярмарке?» – Виля представила эту картину и невольно усмехнулась сквозь страх. Это было бы комично, если бы не было так ужасно.
«Или оно будет слышать даже мой шепот?» – эта догадка показалась более правдоподобной, учитывая всепроникающую природу голоса. Если сущность настолько могущественна, что ее голос слышен отовсюду, то, возможно, и ее слова, даже сказанные тихо, достигнут цели. Но что говорить? Какие вопросы задавать? «Почему все умрут?», «Кто ты?», «За что?». Вопросы роились в голове, один страшнее другого. А что, если ответы будут еще страшнее?
«Боже, как же страшно», – прошептала она, обхватывая себя руками. Одно дело – пассивно слушать и записывать, как испуганный свидетель. Совсем другое – пытаться вступить в контакт, задавать вопросы, провоцировать ответ. Это требовало совершенно иного уровня смелости, которого она в себе пока не ощущала.
Но блокнот она все равно положила на видное место, рядом с рюкзаком. И ручку рядом. Это был ее первый шаг в подготовке. Маленький, но реальный. Символ того, что она не сдалась. Что она будет пытаться. Даже если от одной мысли об этом у нее леденели кончики пальцев и перехватывало дыхание.
Засунув блокнот и ручку в карман старой толстовки, словно это был талисман или оружие, Виля подошла к окну. Она не стала садиться за стол, не стала отворачиваться. Вместо этого она забралась с ногами на широкий подоконник, обхватив колени руками, и уставилась на далекое поле.
Отсюда, из безопасности ее комнаты, оно снова казалось безмятежным и прекрасным. Солнце играло на белых лепестках, ветер лениво колыхал травы. Ничто не выдавало той ужасной тайны, которую оно хранило. Но Виля знала. Теперь она знала.
«Что там?» – этот вопрос бился в ее голове, как назойливый мотылек о стекло. «Что это за сущность?»
Мысли, одна фантастичнее другой, проносились в ее сознании.
«Может, это призрак?» – классический вариант из фильмов ужасов. Дух какого-нибудь несчастного, погибшего на этом поле, неупокоенный и жаждущий отмщения. Но голос… Голос был слишком могучим, слишком… нечеловеческим для обычного призрака. Он не шептал, не стонал, он вещал, как древний оракул.
«Может, гигант?» – эта мысль пришла из детских сказок. Огромное существо, спящее под землей, которое она случайно разбудила. Великан, которому люди – просто муравьи, мешающие его покою. И этот выдох… он вполне мог принадлежать существу исполинских размеров. Но почему он говорит? И почему так печально?
«Может, сама Земля?» – эта догадка была самой пугающей и одновременно самой… логичной, если в этой ситуации вообще можно было говорить о логике. Дух места. Гений локус. Древняя, первобытная сила, связанная с этой землей, с этим полем. Сущность, которая старше людей, старше самого поселка. И теперь она чем-то разгневана? Или опечалена? И ее слова – не просто угроза, а констатация какого-то природного, неотвратимого процесса, как смена времен года или извержение вулкана.
«Что бы это ни было, почти сто процентов эта херня настоящая», – эта грубоватая, но честная формулировка вырвалась у нее почти шепотом. Она больше не пыталась убедить себя, что ей показалось. Отрицание было бы сейчас проявлением трусости. Нет, она слышала. Она чувствовала. И это было реально.
От осознания этого по спине снова пробежал неприятный холодок. Одно дело – смотреть фильмы про сверхъестественное, читать книги, даже верить в существование чего-то потустороннего где-то там, далеко. И совсем другое – столкнуться с этим лицом к лицу. Здесь. В твоей собственной жизни. Когда это касается тебя, твоего отца, всех вокруг.
«Страшно-то как…» – Виля поежилась, хотя в комнате было тепло. Страх был не острым, паническим, как вчера, а глухим, ноющим, как зубная боль. Он сидел где-то глубоко внутри, отравляя все мысли, окрашивая мир в серые тона. И это было только начало. Впереди были дни ожидания, дни подготовки, и, самое страшное, – необходимость снова пойти туда.
Она смотрела на поле, и оно больше не казалось ей ни прекрасным, ни умиротворяющим. Оно стало для нее символом неотвратимой угрозы, загадкой, которую ей предстояло разгадать, и местом, где ей, возможно, придется столкнуться со своим самым большим страхом. И от этой мысли становилось еще страшнее.
Остаток дня прошел для Вили как в тумане, в каком-то лихорадочном, дерганом состоянии. Она не могла найти себе места. Пыталась читать – буквы расплывались перед глазами, смысл прочитанного ускользал. Включила сериал – сюжет казался пресным и неинтересным на фоне того реального ужаса, который поселился в ее жизни. Даже еда, которую приготовил отец, казалась безвкусной, хотя она и заставила себя проглотить несколько кусков, чтобы не вызывать у него лишних вопросов.
Ее постоянно тянуло к окну. Она то и дело подходила, всматриваясь в далекое ромашковое поле, словно пытаясь разглядеть там что-то, что могло бы подтвердить или опровергнуть ее вчерашние переживания. Но поле оставалось невозмутимо спокойным, издевательски безмятежным.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.