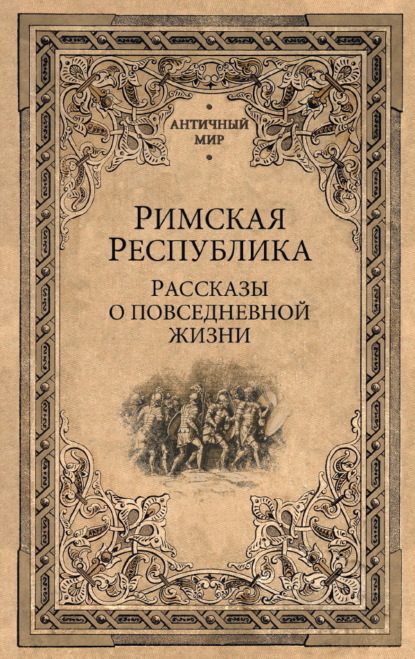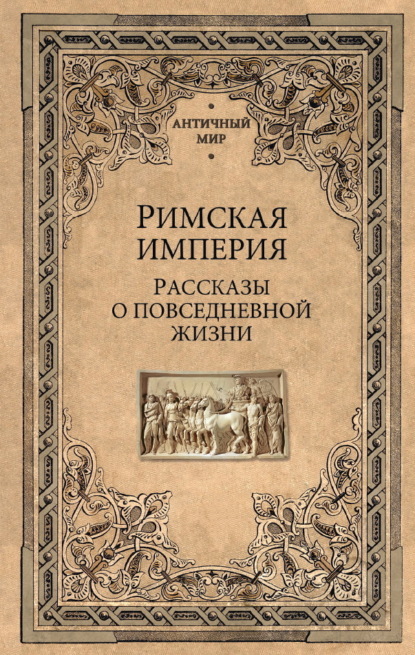Полная версия
Рассказы по истории Древнего мира
Разочарование ищет себе пару. Оно для Лукреция совпало с выходом Ноннии, дочери соседа, замуж за богатого откупщика налогов. А ведь сколько было слез, клятв и взаимных обещаний! Сколько стихов Лукреций посвятил обманщице! Швырнув стихи в печь, Лукреций покинул Геркуланум, а затем и Италию. Начались странствия. Афины, Родос, Пер-гам, Александрия. Менялись города и попутчики. Но друзей не было. Не было и привязанностей. Не было стихов. А ведь когда-то они лились, и их ценил сам Катулл.

Геркуланум. Вилла папирусов
Под свитком Квинта Цицерона в другом ряду оказался футляр с цифрами и надписью на корешке «Из библиотеки Филодема»[73]. Лукреций вспомнил этого забавного старика со вздернутой бородкой и насмешливыми глазами. За год до бегства Лукреция из Геркуланума он туда прибыл то ли из Афин, то ли из какого-то греческого городка в Палестине с огромной библиотекой и с еще большими претензиями на роль властителя умов и был принят Пизоном, отдававшим свободное от спекуляций землями время философии. «Свиток надо отнести, хотя прочитать его я так и не успел, – подумал Лукреций. – Но ведь вилла могла сгореть, а неуживчивый Филодем рассориться с Пизоном или умереть».
– Скажи, Дион, – обратился Лукреций к слуге, собиравшему на полу осколки, – вилла Пизона на месте?
– А куда она денется, – ответил грек. – Теперь ее не узнать. Пизон прикупил две соседние виллы, навез плодородной земли, устроил сад и оградил его высоченным забором. Теперь там собираются философы.
В том, как было произнесено последнее слово, чувствовалась неприязнь не одного Диона, а всей округи к гостям Пизона, которых считали бездельниками.
– Пойду прогуляюсь, – сказал Лукреций, доставая с полки футляр.
Через несколько мгновений, размахивая им, Лукреций спускался узкой тенистой улочкой к морю. За эти годы Геркуланум разросся и украсился, став едва ли не вторыми Байями[74]. Дух бессовестной наживы, охвативший Италию после возвращения с Востока Гнея Помпея, проник и сюда. Торговцы рабами, откупщики и иные денежные воротилы, снеся дедовские обветшалые дома, понастроили вилл и оборудовали их с показной царской роскошью.
Но вот и забор, о котором говорил раб. Гладкие белые квадры в три человеческих роста. Конечно же, такая ограда не могла не вызвать у окружающих раздражения. «Раз глухой забор, значит, что-то хочет скрыть от глаз».
Обходя забор, тянувшийся вдоль моря более чем на стадий[75], Лукреций вспомнил рассказ отца о Ливии Друзе Младшем, устроившем свой дом так, чтобы его жизнь была видна соседям. «Как с тех пор изменилась Италия!» – подумал он.
На воротах не было обычного изображения пса, свирепо оскалившего зубы. На цепочке свисал деревянный молоток. Лукреций трижды ударил им в железную скобу, и вскоре калитка отворилась. Это был не привратник, а сам Филодем.
– Лукреций! – воскликнул старец, бросаясь к гостю. – Тебя не узнать! Возмужал! Окреп! Почему не писал? Наверное, женился? Есть ли дети?
– Не женился, – ответил Лукреций. – Решил последовать твоему примеру. А ты совсем не изменился… А ведь сколько воды утекло!
Они вошли в калитку и оказались в саду.
– Пусть ораторы измеряют время протекшей водой или песком, – продолжил разговор Филодем. – Людям нашего призвания уместнее отмерять его длиной папирусных свитков, которые нам удалось прочитать или исписать. Это истинное мерило нашего труда, если, конечно, мы его выполняем не по принуждению, как рабы.
– Прекрасная мысль! – воскликнул Лукреций. – Но за эти годы я ничего не написал. Странствовал. Испытал много разочарований. В Геркуланум меня привела весть о болезни отца. Но я его не застал.
– Я немного слышал о твоих неудачах, – вставил Филодем. – Но забудь о них. За этим порогом не вспоминают ни о чем дурном. Зло остается везде. Таков закон виллы, который не дано нарушить никому.
– И Пизону?
– Он не исключение. На этих условиях я согласился здесь жить, а Пизон великодушно оплатил все расходы на переустройство виллы в духе великого учения. Ведь в том году, когда мы познакомились, здесь еще не было сада. Пойдем, я его тебе покажу.
Освещенный полуденным солнцем, сад был действительно великолепен. На всю его длину тянулся пруд в форме эллипса. Из позолоченных морд тритонов били фонтаны. Величаво проплывали лебеди. По берегам среди пышно разросшихся кустов и деревьев стояли в непринужденных позах бронзовые фигуры. Среди них не было ни одного из тех, кто ради своих жалких прихотей вверг республику в бездну братоубийственных войн.
– Что это за люди? – спросил Лукреций, не отыскав на базах статуй и бюстов надписей.
– Это его ученики и последователи. Царь. Поэт. Рыбак. Кормчий. Зачем тебе их имена?
Лукреций мысленно согласился с Филодемом. Ему действительно были безразличны имена этих людей, ставших такой же частью пейзажа, как деревья и дорожки, усаженные буксом, как заросшие виноградом беседки. Но о каком учении говорит Филодем? О каком учителе?

Лукреций Кар. Гравюра конца XVII в.
– Извини меня! – вдруг заторопился старец. – Твое посещение было приятной неожиданностью, но скоро соберутся друзья, я же не успел отдать распоряжений. Оставлю ненадолго тебя одного. Вот беседка. Отдохни. Когда вернусь, договорим.
Лукреций зашел в беседку и поудобнее устроился на плетеном сиденье. Свитка он так и не успел отдать и теперь прочтет, перед тем как вернуть. Ведь Филодем может спросить его мнение.
Там, где должно было стоять имя автора, значилось: «Главные мысли»[76]. Поразила уже первая фраза: «Мы рождаемся один раз, а дважды родиться нельзя, но мы должны целую вечность не быть. Ты же не властен над завтрашним днем, откладываешь радость, а жизнь гибнет в откладывании, и каждый из нас умирает, не имея досуга».
Лукреций отложил свиток. Теперь он понял, что сад, устроенный на средства Пизона, подчиняется законам радости, которые определил человек, написавший эти слова. Это он автор великого учения, а бронзовые фигуры в саду изображают его учеников. Поэтому здесь неуместно страдание.
Вторая фраза была совсем короткой: «Надо освободиться от уз обыденных дел и общественной деятельности». Это прямо относилось к нему. Все ему с детства внушали, что надо отдать себя служению обществу. Это постоянно проповедовал Цицерон, излагая учение стоика Зенона[77]. А что дает эта деятельность, кроме разочарования?! Служение обществу – обман, которым ловко пользуются такие прохвосты, как Цезарь, извлекая личную выгоду. Да и сам Цицерон при всем его таланте, разве он не такой же честолюбец? «Как жаль, что я не развернул этого свитка семь лет назад!» – подумал Лукреций.
«Дружба обходит с пляской вселенную, чтобы мы пробуждались к прославлению счастливой жизни».
«Как это прекрасно сказано! – думал Лукреций. – Не просто обходит, а с пляской, вовлекая все человечество, все народы в хоровод! Обходит, разрушая недоверие между народами и людьми. А как же этот забор, отделяющий друзей и дружбу от всего мира? Очевидно, он создан для того, чтобы первые, еще слабые семена дружбы укрепились в почве и окрепли. А потом, потом ветер добра разнесет их по всему миру. И в мире зла и безумия появится множество таких, как этот, цветущих островков, оазисов. И они со временем сольются в сплошной сад, открытый всем».
Одна мысль следовала за другой, и они отрывали от земли, унося в необозримое пространство к звездам. В нем не было и не могло быть богов, потому что человек, высказавший эти мысли, сам был богом. Как же ничтожно было все, что занимало его эти годы, перед открывшейся его взору картиной. Разве можно после всего того, что он узнал в эти мгновения, тратить папирус на жалобы уязвленного самолюбия.
Лукреций утратил ощущение времени. Он не заметил, что начало темнеть. Словно бы чья-то невидимая рука очистила струны его души от всего, что на них налипло, и настроила для звучания. Лукреций чувствовал себя под защитой могучего интеллекта и был уже уверен, что никто и ничто не отвратит его от радости и счастья. Огромная, неслыханная тема звала его к себе, и уже не он искал, а его искали, сначала беспорядочно теснясь, а затем расправляясь и оперяясь, складываясь в душе, слова его великой поэмы. Рождался его Эпикур, преображенный и обогащенный поэзией.
По отрешенному выражению лица Лукреция Филодем понял, что гость не готов к продолжению разговора, что он внимает чуду, рождающемуся в нем самом.
Блаженно улыбаясь, Филодем покинул беседку и, когда уже шел вдоль бассейна, услышал, как бешено застучал каламос[78] по папирусу, и его бледные старческие глаза наполнились слезами радости.
Вергилий
Герой рассказа – знаменитый поэт эпохи Августа мантуанец Вергилий (70–19 гг. до н. э.).
Человек в грубом гиматии шел обочиной мощеной дороги. Как и все другие дороги, сооруженные римлянами, она обязательно приведет к городу на семи холмах. Но цифра «семь» счастлива не для каждого. Да и не всем столица мира откроет свои ворота.
«Рома! Рома!» – Публий повторял это короткое рокочущее слово каждый раз на новый лад, то с надеждой, то с отчаянием, то со злобой и презрением. Его предки превратили эту крепостцу на Палатине в великий город. Они дали ей Форум, величайший цирк, величайшую клоаку, выводившую его нечистоты в Тибр. Они воздвигли Капитолий, научив почитать там своих богов, познакомили со своими праздниками и триумфом, одели в свою тогу. Но от тех, кто вспоен молоком волчицы, не дождешься благодарности. Разрушены сначала Вейи, а затем и священные Вольсинии. Теперь они добрались и до северного этрусского двенадцатиградья, до его столицы Мантуи. Из Рима пришел приказ отнять у него, Публия, надел, ибо Октавиану потребовалось ублажить своих воинов-разбойников. И теперь от того же Октавиана зависит, возвратят ли ему отцовский участок или нет.
Но как найти путь к окаменевшим сердцам властителей Рима? Красноречием? Публий не сумел окончить школу риторов. Речь его медлительна, как река, текущая по равнине. Связями? У покойного отца не было знатных родичей. Стихами? Поймут ли римляне, чей бог Война, бесхитростные сельские напевы?
Публий уже отослал свиток со стихами Меценату[79]. Как он к ним отнесется? Может быть, он выделит Публия среди десятков посетителей своего белоколонного дома? Бросится к нему сам? Скажет: «Я прочел твои стихи, мой Публий. Ты – римский Гомер. Нет, не римский, этрусский. Твоя родина – Мантуя. Моя – Клузий. Мои предки были царями. А твои, я уверен, жрецами. Ты кудесник, мой Публий».
Публий грустно улыбнулся, поняв, что зашел в своих мечтах слишком далеко. «Да, мои предки были жрецами, – мысленно ответил он Меценату. – Недаром я ношу то же имя Марон, что и воспетый Гомером жрец Аполлона. Но мой отец был земледельцем и разводил пчел. Теперь и ульи с пчелами, и земля, на которой они стоят, принадлежат ветерану Октавиана. И мне не нужна слава. Вернуться бы на свою землю…»
Публий сошел с дороги и присел на полусгнивший пень. Справа и слева высились остроконечные этрусские курганы, опоясанные у основания лентой из каменных плит. Курганы напоминали сосцы раскинувшейся на спине гигантской волчицы. Из таких же сосцов пили молоко мудрости Ромул и другие римские цари. Этруски научили их сооружать каналы для отвода сточных вод, строить мосты и храмы, обучили их искусству письма и театральным представлениям. Искусство, подобно солнцу, взошло над этой страной. Но вместе с удовлетворением желаний, вместе с богатством пришла сытость. Тогда и появились эти гробницы, саркофаги со статуями лежащих на них жирных, довольных всем и безразличных ко всему покойников.
Но что это? Косые вечерние лучи? Или паутина, сплетенная из невидимых нитей? Струны давно ушедшего мира? Публий невзначай прикоснулся к ним, и они заговорили голосами предков, запели лепестками цветов, звонкими и чистыми струями потока. Это чудо. Его называют вдохновением, милостью муз. Публий перешагнул невидимую грань, за которой начинается божественное. Теперь он может стать и деревом, и цветком, спуститься в подземное царство, чтобы встретиться там с возлюбленной, подняться на колеснице Гелиоса к звездам. Он может выбрать любого героя и заговорить его устами, повторить его жизнь.
«Я выберу Энея, – думал поэт. – Он был скитальцем и изгнанником, как я. У него отняли Трою, у меня – Мантую. Он ушел, унося на плечах не драгоценности, а престарелого отца. Я уношу отцовскую любовь к родной земле. Потомки Энея основали Рим. Но он мог бы остаться в Карфагене вместе с полюбившей его царицей Дидоной. Тогда бы на Форуме сейчас паслись овцы. По склонам Палатина вместо мраморных дворцов лепились бы камышовые хижины. Ганнибал не шел бы через Альпы на Рим. Римские легионы не стояли бы на Рейне и Дунае. Безбожные ветераны не сгоняли бы земледельцев с участков. И я писал бы стихи не на языке римлян, а на языке своих предков. Все, все было по-другому. Но даже Эней не был властен над своим прошлым. Он ничего не мог в нем изменить. Но будущее… Каждый шаг может для него что-нибудь значить».

Вергилий. Римская мозаика III в. н. э.
Публий шел дорогой, ведущей в Рим. У него было лицо с тяжелым подбородком, с деревенским румянцем, просвечивающим сквозь загар. Со стороны этого рослого, сутулого человека с длинными костистыми руками можно было принять за пастуха. Но тот, кто бы взглянул в его глаза, остановился, ослепленный их блеском. Он бы понял: для этого человека нет невозможного. Меценат откроет ему двери своего дома. Август будет до конца своей долгой жизни рассказывать о встречах с нищим мантуанцем. О его еще не законченной «Энеиде» напишут:
Прочь отойдите, писатели римские,также и греки;Нечто творится важней здесь«Илиады» самой.А он останется собой недоволен и перед смертью прикажет сжечь «Энеиду». Ее опубликование современники оценят как спасение возрожденной в его стихах Трои. До последнего дыхания Вергилий будет верить, что еще ничего не сделал, ничего не достиг, что лучшие строки еще не написаны.
Овидий
Император Август сослал великого римского поэта Овидия на северо-западный берег Понта Эвксинского (Черного моря), где он и умер, не добившись разрешения вернуться на родину.
Волны еще не смыли очертаний тела на песке, а черная голова пловца уже едва виднелась в открытом море. Издалека ее можно было принять за водяную птицу, плавающую у берега в осенние дни.
Несколько минут назад пловец лежал на животе, бездумно пропуская меж пальцами мокрый песок. Ветер трепал волосы, стянутые на лбу льняной тесьмой. Из камышей, обнявших колючим строем озерцо, доносилось ленивое мычание волов и хруст жвачки. Ненавязчивые звуки успокаивали. А прикосновение волн, зализывавших щиколотки, было приятно, как ласка ребенка.
И вдруг человек вскочил на ноги. Чуткий слух уловил чуждые берегу звуки. Римляне шли, оживленно болтая и смеясь.
Пастух стиснул кулак с такой силой, словно бы в ладони была не горсть песка, а горло недруга. Из кулака потекла желтая жижа. Человек бросился в море и поплыл к плоской, вытянутой косе.
Местные жители, геты, за рубцы и шрамы на теле прозвали его Меченым. Никто не знал его настоящего имени – он был продан в рабство ребенком. Рассказывали, что он провел много лет на римской триреме, поднимая и опуская тяжелое весло, и это его ожесточило. У него не было семьи. Дочери и жены рыбаков избегали его. Он не смотрел людям в глаза, изъяснялся на каком-то странном языке, смешивая греческие и латинские слова с наречием своего народа. Он умел читать не хуже тех, кто приходил из города в рыбачий поселок собирать подать. Но казалось странным, что он никогда не бывал в Томах[80] и при появлении римлян прятался, хотя ничто ему не угрожало.
Пастух вышел из воды, отряхнулся, с опущенной головой зашагал вглубь косы, туда, где из песчаных, надутых ветром холмов поднимались желтоствольные сосны.
И тут ему бросилась в глаза вытащенная на берег лодка. Как он ее не заметил с моря? «Здесь кто-то должен быть…» Едва успев это подумать, пастух увидел сгорбленную человеческую фигуру. Незнакомец сидел спиною к морю. Ветер раздувал его седые волосы. Внезапно он встал, и пастух разглядел белую римскую тогу. Римлянин! Наверное, один из тех, кто прибыл на корабле в Томы. От них и здесь не скроешься! Решение пришло сразу. Этот должен ответить за все. Только так можно покончить с прошлым, которое давило как камень. Рука сама вытащила из ножен на поясе кривое лезвие. Гениохи[81] научили им пользоваться. С десяти шагов оно поражает без промаха.
И вдруг пастух услышал всхлипыванье. Он оглянулся. Трудно поверить, что плачет этот старец в тоге. Но вокруг не было никого. Плачущий римлянин! А ему казалось, что римляне бесчувственны и заставляют плакать других. Кто мог обидеть этого римлянина? Кто причинил ему боль? Пастух прислушался. Удивительный римлянин уже пел. И песнь его была широка, как Данувий в месяц разлива. Откуда в квакающей римской речи появилось столько величавой мудрости, грустного раздумья и хватающей за сердце тоски? Этот римлянин – певец. А все певцы – любимцы богов. Даже дикие звери не трогают их. Дельфины высовывают головы из кипящих волн и внимают их пению.
Пастух засунул нож за пояс и медленно зашагал к поющему. Дождавшись, пока римлянин закончит свою песню, он спросил:
– О чем ты поешь, чужеземец?
Римлянин повернулся. Его лоб был в морщинах, но глаза сохранили юношеский блеск. И в них не было ни испуга, ни удивления.
– Я пою о родине, с которой меня разлучила судьба, – ответил римлянин. – Вот уже десять лет, как меня изгнали из Рима в этот пустынный и безотрадный край. Десять лет, как я взираю на это море размыто-синего цвета, словно бы Нептун пожалел для него лазури. Песни, которые я пою, никто здесь не понимает, и я, записав их на папирус, отсылаю в Рим.
– У тебя есть о чем вспомнить, – сказал пастух. – Ты был счастлив на своей родине.
– У меня есть одни воспоминания.
– Воспоминания бывают разными, – продолжал пастух. – Одни расширяют твое бытие. Ты живешь и минувшим, и настоящим. Другие как тяжелая железная цепь. Идешь, а они тянут тебя назад.
Римлянин удивленно вскинул голову. Он не ожидал услышать от варвара столь мудрые слова.
– Ты хорошо сказал о воспоминаниях. Но у человека должно быть будущее. Я же потерял все, кроме жизни, которая каждодневно дает мне чувствовать горечь бедствий. На мне больше нет места для ран. Римские друзья забыли обо мне. Моя Фабия больше не пишет. А как она рвалась за мною в прощальную ночь. Я не взял ее, надеясь, что в Риме она добьется для меня прощения. Шли годы. Прощения не было. Август не изменил своего решения. Мои жалобные песни не смягчили его сурового сердца. Новый правитель хуже прежнего. Я и мои песни ему ненавистны. Скорее Данувий направит свой бег к истокам! Скорее исчезнет созвездие, что в ночном небе стоит колесницей[82], чем мне разрешат вернуться в Рим.

Овидий среди скифов. Художник Э. Делакруа. 1862 г.
Пастух слушал, проникаясь все более и более сочувствием к этому удивительному человеку. Римлянин плакал от бессилия изменить свою судьбу. У него не было будущего.
Помолчав немного, певец приподнял исхудавшее лицо. Огромные горящие глаза смотрели с ожиданием, но в нем ощущалось беспокойство.
– Я не надеялся здесь никого встретить, – произнес он прерывающимся от волнения голосом. – Этот мыс всегда мне казался глухим и пустынным. Я приплыл сюда, чтобы свести счеты с жизнью. Но раз судьба столкнула меня с тобой, я решаюсь просить тебя об услуге. Руки мои не привыкли к мечу. Мне еще не приходилось вонзать мертвую сталь в живое тело. Удар может оказаться неверным, смерть – долгой и мучительной.
Римлянин наклонился и быстро поднял с земли меч. Его широкое лезвие блеснуло на солнце.
– Вот, возьми!
Пастух отпрянул. Во взгляде его сквозил ужас.
– Нет! Нет! Я не могу, я не хочу убивать. Я слишком много видел смерти и страданий. И разве ты виноват в том, что со мной было?
Сейчас пастух уже не помнил о своем намерении лишить римлянина жизни. Что же произошло за эти несколько минут? «Этот римлянин не такой, как другие, – думал пастух. – Он слишком хорош для Рима. Но почему он не может жить без своего города, принесшего ему горе? Почему ему мало этого простора, этих сосен, этих синеющих на горизонте лесов?»
– Остановись! – кричал римлянин. – Заклинаю тебя богами, остановись!
Пастух бежал по косе, увязая по щиколотки в песке. «У каждого свои счеты с жизнью, – думал он. – А я не могу быть убийцей».
– Уведи мой челн, – донесся голос издалека. – Утопи его в море. Я не хочу, чтобы они узнали, как умер Овидий.
Пастух направился к лодке. «Овидий… – думал он. – Римлянина зовут Овидием». Он никогда не слышал этого имени. Да, этот римлянин не такой, как другие.
Марциал
Герой рассказа – знаменитый римский поэт, автор нескольких книг эпиграмм. Попав в Рим в молодости, он стал клиентом.
– Тринг! Тринг! – пели ступени под ногами у Марциала. От чердака, где его каморка, донизу двести ступеней. Они сгнили и перекосились. Домовладельцу давно бы пора лестницу починить, но, поскольку протекала и кровля, он не знал, с чего начать ремонт. Или, может быть, он решил предоставить свою инсулу разрушительному действию времени, чтобы соорудить на ее месте новую?
Впрочем, у всего есть две стороны. И лестница имела свои преимущества. Не каждый рисковал подняться по ней на чердак. Кредиторы предпочитали оставаться на мостовой, даже рискуя, что на их головы выльется ведро помоев. Иногда же они, приложив ко рту ладони, тоскливо кричали: «Эй, Марк! Где ты?» Или: «Куда ты запропастился, Гай?» На это им кто-нибудь сверху отвечал не без злорадства: «Твой голубок улетел! Фью!»
И «голубятники» – так называли кредиторов в этих городских кварталах, населенных голытьбой, – удалялись, клянясь, что более никогда не будут отпускать товары в долг, и изрыгая проклятия.
– Тринг! Тринг! – пели ступени под ногами у Марциала. Песня лестницы подбадривала и навевала надежды. Ведь сегодня у богатого грека Кассиодора день рождения и можно будет наесться на несколько дней вперед.
Было начало второго часа[83]. Марциал поеживался от холода. Черепицы и плиты мостовой за ночь потеряли тепло, а солнце нового дня еще не успело их согреть. В этот ранний час богиня Фебрис[84] пробирает до костей, а ее сводная сестра Либитина[85] уже выносит носилки для трупов и зажигает погребальные костры. Богачи еще нежатся на своих пуховых ложах. Дрыхнут и их рабы. И только клиенты чуть свет, дрожа от холода, несутся из одного конца города в другой в страхе опоздать к пробуждению патрона.
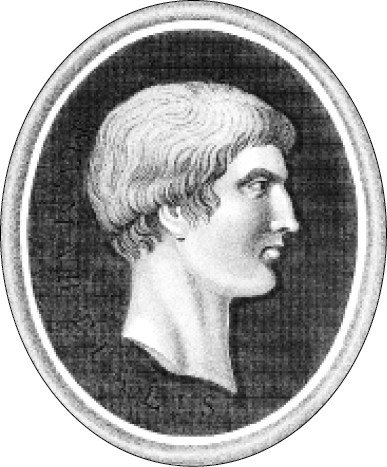
Марциал. Гравюра 1816 г.
Улица понемногу начинала оживать. Тускло мерцали светильники в руках педагогов[86], провожавших своих полусонных питомцев. Занятия в школах начинались рано, и опаздывавших ждали розги. Стуча деревянными подошвами, в сторону Овощного или Бычьего форума топали с корзинами рабы. Раздавались простуженные голоса зеленщиков и молочников. Телега трещала под тяжестью огромных каменных квадров. Возничий нахлестывал мулов, торопясь доставить груз к строительной площадке еще до того, как над Римом поднимется солнце.
Причудливо петлявшая улица, казалось, сплошь состояла из одних лавок, занимавших первые этажи. Лавочники, зевая, отодвигали скрипящие деревянные ставни, спускали с окон полотнища, дающие тень и одновременно зазывающие прохожих. На одном из них досужий малеватель изобразил в ярких красках кровяные колбасы, зайцев и кабанов в окружении изумрудных листьев салата. В животе у Марциала заныло. Он нащупал в кожаном мешочке одинокую монету. Последний денарий. Когда еще отец пришлет из Бильбила[87] новые деньги и надолго ли их хватит? Поборов соблазн, Марциал зашагал еще быстрее.
В начале Субуры, пристроившись к стене дома, сидела Сабелла, помахивая бритвой. Марциал улыбнулся, вспомнив, как год назад, когда он только приехал в Рим, соблазненный дешевизной платы, он сел на ее шаткий стул, но убежал еще до того, как бритва подошла к подбородку. «Сабелле не мешало бы запастись веревкой, чтобы привязывать новичков, – подумал Марциал. – Какая она цирюльница! Она палач. Но как ловко бреет носатый грек Киннам, переиначивший свое имя на римский лад и называющий себя Цинной. Да ведь я ему задолжал два денария».
Марциал ступил на Мульвийский мост. У обоих берегов реки тянулись бесконечные ряды плотов и барок. Волны священной Альбулы несли на себе богатства самых отдаленных народов, и всего этого было мало, чтобы насытить, одеть и увеселить необъятный город. «Нет, все-таки Рим прекрасен, – думал Марциал, охватывая взглядом великолепную панораму. – Что бы я делал в Бильбиле со своим образованием? Вел бы в судах дела каких-нибудь торговцев или лавочников? Следил бы за отцовскими рабами? На кого бы я там писал эпиграммы и кому бы я их читал?»