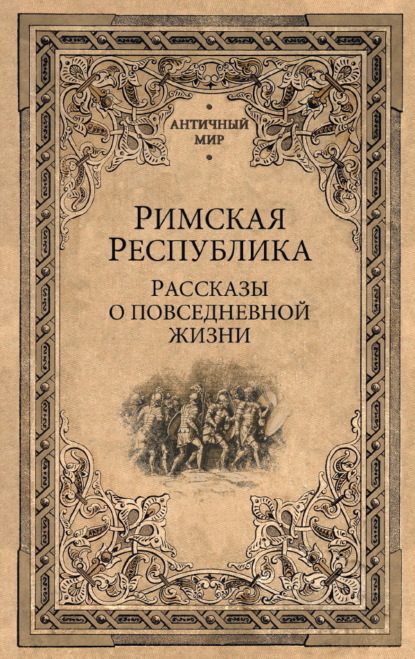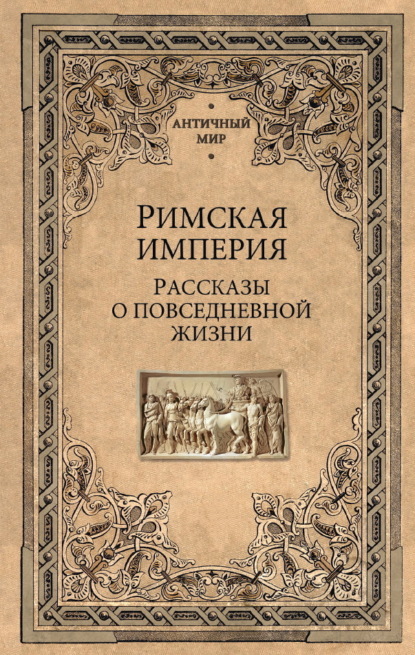Полная версия
Рассказы по истории Древнего мира
Сады Затибрья приняли путника в сень своих цветущих лип. За каменными заборами особняки выставляли напоказ изящество своих форм. Дорожки усыпаны желтым морским песком, и вдоль них – букс, превращенный ножницами садовника в причудливые крепости с башнями и воротами. «Как знать, – думал Марциал, – может быть, и я буду здесь когда-нибудь жить и отмечать дни своего рождения».
А вот и дом Кассиодора с массивной дверью, украшенной медными, вычищенными до блеска бляшками. Марциал взглянул на одну из них и поправил на себе тогу.
Атриум был уже полон. Посетители стояли, прислонившись к колоннам, или сидели на деревянных скамьях вдоль стен. У некоторых сгорблены плечи, наклонены головы. Привычка жить в каморках, где не выпрямишься во весь рост. Может быть, они презирают Кассиодора, начавшего свою карьеру вольноотпущенником в канцелярии императора Клавдия, а при Нероне ставшего одним из самых богатых людей Рима. Но они почтительно ждут его появления.
А вот и хозяин дома. Расплывшееся лицо. Надутые губы.
– Будь здоров, Кассиодор! – раздались голоса приглашенных. – Долгих лет тебе жизни!
Кассиодор, повернув голову, заметил Марциала.
– А, это ты, ибериец, – проговорил он, озирая его с ног до головы. – Тот самый, чьи остроты и шутки знает пол-Рима. Тога помята. Небрит.
– Я самый, – ответил Марциал, поклонившись. – Плохой я поэт, поэтому новой тоги мне никто не подарит и денег на бритье не даст.
Отведя глаза, Кассиодор оглядел клиентов и произнес, протянув вперед руку:
– Целую вас и всех и приглашаю почтить моего гения.
Вокруг столы на тридцать персон поставлены буквой «П», ложа. Наметанный глаз Марциала успел схватить главное: фиалы, по две тарелки на персону. Вино и горячее. Недурно! Но что на десерт?
Раб указал Марциалу его место. Он снял сандалии и, поставив их у стены, где была гора обуви, лег на ложе, облокотившись на жесткую подушку. Справа от него расположился пожилой клиент с желваками на лице, называемыми в просторечье фигами. За ним возлежал какой-то тучный субъект, все время вытиравший обросшую волосами шею платком. Хозяин дома занимал почетное место в другом конце зала.
Рабы разносили очищенные яйца, листья пышного салата, ломтики копченого козьего сыра. Разговор не клеился. Гости были слишком голодны, чтобы использовать свои языки не по главному назначению. Марциал проглотил половинку яйца и заел его ломтиком сыра. Пододвинув фиал, он отхлебнул глоток, и глаза у него чуть не выскочили из орбит. Кислятина из этрусской амфоры. «Скотина! – подумал Марциал, взглянув на Кассиодора. – Сам, наверное, тянет номентанское или фалернское, а гостям подает что подешевле».
Кассиодор поймал взгляд Марциала.
– Ибериец! – сказал он. – У Атректа продается твоя книга. Я слышал, что ее похвалил Сенека. Он прочит тебе славу Горация.
– Увы! Время Горациев миновало! – с ложным пафосом произнес Марциал. – Вывелись Меценаты.
Это был намек, понятный и грудному младенцу, но до Кассиодора он не дошел. Может быть, он не слышал о Меценате и его щедрости к поэтам?
– Меценат подарил Горацию небольшую виллу и избавил поэта до конца его лет от забот о пропитании, – пояснил на всякий случай Марциал.
– А я слышал, что он потом перестал писать, – сказал Кассиодор. – Да и Вергилий стал поэтом, когда божественный Август отнял у него поместье.
Марциал хотел было уличить Кассиодора в невежестве – ведь поместье у отца Вергилия отнял Октавиан, еще не ставший Августом, а потом вернул ему вдвое больше и в лучшем месте. Но вместо этого потянулся к блюду с маринованными оливами.
Тем временем показался раб с большим серебряным блюдом. На нем высилась огромная рыбина с выпученными глазами в застывшем соусе. Черными маслинами в нем было выложено место поимки рыбы – Меотида.
– Восьмое чудо света! – воскликнул кто-то из гостей.
– Принесите весы! – вторил ему другой. – В ней не менее двадцати фунтов.
– Нотариуса! Составить протокол! – кричал третий.
Но вот уже рыба взвешена, и вес ее удостоверен в особом пергаментном кодексе, куда заносятся памятные события из жизни дома, а почетные гости оставляют там свои подписи. Кассиодор дал знак, чтобы блюдо поставили на стол. Вот оно, чудовище! До него можно дотянуться рукой. Но негодный раб с ножом в руке не торопится. Он чего-то ждет.
– Спинку! – небрежно бросает Кассиодор.
Раб вырезает тонкий кусок и почтительно передает его хозяину. Тот берет лоснящийся желтым жиром кусок осетра, придирчиво крутит его перед носом, принюхивается и погружает в мясо зубы.
Внезапно лицо Кассиодора перекашивается.
– Пересолено! – вопит он. – Повар! Где повар?
В зал вбегает человек в кожаном переднике. Он бросается Кассиодору в ноги, умоляя о пощаде. Но Кассиодор неумолим.
– Палача! – кричит он. – Плетей! Плетей.
Пока кто-то мчится за палачом, раб разрезает рыбу. Марциалу достается кусок от хвоста. Мясо тает во рту. Мой Геркулес! И вовсе оно не соленое! Лишь немного переложено перцу.
– А где твой повар Сантра? – спрашивает сосед Марциала. – Я помню, Кассиодор, что ты им гордился.
– Здесь! – отвечает Кассиодор, показывая на блюдо. – Я продал Сантру, чтобы купить этого осетра. Рыбы из Меотиды нынче в цене. А Сантра стал стар. Этого же негодяя, – Кассиодор указал на валявшегося в ногах повара, – я выиграл на скачках. Поставил на голубых[88]. Голубые вышли вперед.
Явился палач, эфиоп в короткой тунике с плетью через плечо. Но, видимо, именинник уже успокоился и отказался от мысли устраивать публичную экзекуцию перед пиршественным столом. Повара увели.
Мысль, что рыба досталась такой ценой, не давала Марциалу покоя. «Значит, я ел не рыбу, а человека. Я людоед, как Полифем!»
Марциал не шел, а бежал. Капельки пота блестели на его юношеском загорелом лице. Край тоги волочился по камням мостовой. Было позднее время, и рабочий люд расходился по домам. Марциал обогнал группу мужчин в заплатанных грязных туниках, пахнущих рыбой и дегтем. Они шагали молча, понуро опустив головы.
Осталась позади Субура. Скорее! Теперь он никого не замечал. Скорее! Наверх! Еще не выросли у бычка рога, а он уже наклоняет голову и рвется в схватку. Тонконогий жеребенок радуется дорожной пыли, предчувствуя будущие скачки. Так и поэт предчувствует появление гневных муз. Завтра весь Рим будет повторять эпиграмму Марциала о Кассиодоре.
Власть искусства
Обломок торса
Рассказ относится к эпохе фараона Эхнатона (1372–1354 гг. до н. э.), порвавшего с традиционными культами египетских богов и введшего поклонение единому богу – солнечному диску Атону.
Эхнатон быстро вошел в мастерскую и двинулся к пьедесталу, на котором высилась уже почти готовая статуя Нефертити1.
Увидев Благого бога, Тутмес вскрикнул и бросился к нему. Ведь он не приглашал царя, надеясь через несколько дней отнести работу во дворец.
Ответив на земной поклон ваятеля, Благой бог созерцал статую. Судя по взгляду, он ожидал увидеть царственную супругу другой. Глаза его блуждали.
– Как живая, – сказал Благой бог. – Превосходная работа. Но я пришел за другим. Помнишь, еще в Фивах ты мне показывал Атона.
– У меня нет такой статуи, – растерянно проговорил Тутмес.
– Это был обломок. Но от него идет все.
– Что все? – спросил почтительно ваятель.
Глаза Благого бога зажглись.
– Этот город. Дворец. Храмы. Мои песнопения. Все, что создано мною за эти семь лет, и все, что я надеюсь еще создать. Ты не оставил это в Фивах? – В голосе Эхнатона прозвучал испуг.
– О нет! – сказал Тутмес. – То, к чему прикоснулась рука, нельзя оставить, как часть своей плоти, как ногти, волосы. Ибо велика сила колдовства. Я храню это в подвале, и никто, кроме меня, туда не имеет доступа. Если хочешь, я принесу эту вещь.
Оставшись один, Благой бог ходил перед статуей Нефертити[89], ни разу на нее не взглянув. Его губы шептали: «Ты восходишь на восточном горизонте, красотою наполняя всю землю. Ты прекрасен, велик, светозарен и высок над землею… Зародыш в яйце тебя славословит, Атон…» Услышав тяжелые шаги Тутмеса, Благой бог резко обернулся. Имя творца всего застыло на его губах.
Ваятель поставил обломок на скамью и быстрым движением ладони стер с него пыль.
– Он! – восхищенно проговорил Благой бог. – Все годы Маат[90] держала передо мною эту выпуклую грудь, эти ребра вечно живущего. Они мне виделись лучами, согнувшимися, чтобы охватить всю землю. Еще в Фивах, впервые в твоей мастерской, Тутмес, я ощутил различие между Атоном и Амоном[91]. Амон застыл в величии своей неподвижности, в завершенности. Атон же в вечном движении и рождении. Он вечен, но всегда юн и открыт всему живому, где бы оно ни рождалось. Он велик во всех народах и во всех обличиях. И тогда я впервые отдал свою душу Атону, не иссякающему, как небесный Хапи, меняющемуся, как времена года, сострадающему своим творениям и любующемуся ими. И я отверг Амона, объявил войну супруге его Мут и Хонсу, сыну его, приказав забить их имена на камне и удалить их из сердец. Я изменил свое имя, став сыном Атона. Я основал этот город и вынес Атона из мрака, куда его заточили жрецы Амона, на свет. Отныне он открыт всем рожденным в Атоне, каким бы ни был цвет их кожи, на каком бы они ни говорили языке. Вот что я хотел сказать тебе, Тутмес. Да не иссякнет к тебе милость Атона, дающая тебе ясность взгляда и силу рук. А теперь отнеси свое творение туда, откуда ты его взял. И да не увидит его никто, кроме тебя. Ибо нет страшнее греха лицезреть изображение Атона в человеческом или зверином облике. Ибо у Атона нет тела. Он живет, сияя над горизонтом, для тех, кто в него верит и кто в нем рождается.

Фараон Эхнатон и Нефертити совершают подношения Атону. Между 1372 и 1355 гг. до н. э.
Беглец
Великий греческий скульптор Фидий, бежав из тюрьмы, куда был брошен по клеветническому обвинению, вспоминает о своем друге Перикле и их общем труде, возвеличившем Афины. Впрочем, некоторые из древних авторов утверждали, что скульптора выкупили из тюрьмы жители Элиды и он переселился туда, чтобы украсить Олимпию. Третьи, напротив, полагали, что в Олимпии он работал до этого, из тюрьмы выпущен не был и там умер.
Была середина ночи. Город, устав от жары и дневных забот, погрузился в спасительный сон. По дороге в Пирей шли двое. Худой бородатый старик в длинном гиматии еле волочил ноги. Поддерживавшему его стройному юноше можно было дать лет двадцать пять. Стук педил[92], колотивших о камни, сливался со звоном цикад. Из освещенной луною зубчатой стены три раза резко прокричала сова.
Старец остановился и, положив ладонь на плечо юноши, сказал:
– Давай остановимся, я немного отдышусь, Геродор.
– Хорошо, Фидий, – отозвался юноша. – Отдохни!
Фидий сошел с дороги й устроился на гладком плоском камне. Через несколько мгновений он повернулся, обратив лицо к темной громаде Акрополя. И сразу же память вернула его к тому теперь уже далекому дню, когда он был молод и взбежать на Акрополь не стоило ему труда…
Площадь Акрополя напоминала поле битвы. Коры и куросы[93], сбитые со своих мест, лежали как павшие воины с застывшими улыбками на едва окрашенных лицах. Между обломками расколотых колонн торчали пучки желтой травы. Под ногами хрустели черепки драгоценных сосудов, некогда украшавших стены святилища.
«Долго ли еще останутся следы неистовства варваров, разрушивших нашу святыню? – думал он тогда. – Кажется, афинянам достаточно того, что нечестивец Ксеркс наказан богами за осквернение храма богини Девы. Никому нет дела до возвращения Акрополю былой красоты».
Чуткий слух Фидия уловил за спиною едва заметный шум. Так он увидел узколицего юношу со странно вытянутой головой. Пройдя какое-то расстояние, незнакомец развернулся и двинулся в обратном направлении, пока не наткнулся на преграждавший ему путь обломок колонны.
Фидий поспешил юноше на помощь, и они вдвоем откатили колонну.
– Я – Перикл, сын Ксантиппа, – представился юноша.
Если бы не удлиненная голова, его можно было назвать красивым. Широко расставленные серые глаза дышали умом, слегка приподнятый подбородок выражал волю.
– Я слышал о твоем отце, – сказал Фидий. – Он прославился в войне с персами. Мой отец Хармид воевал под его началом. Меня зовут Фидием. Не правда ли, печальное зрелище? С какой бы радостью я приложил руки к восстановлению Акрополя! А мне приходится высекать погребальные плиты…
– Ты скульптор? – радостно воскликнул Перикл. – Сами боги послали тебя. Только что я наметил место для нового храма Афины, который должен прославить наш город…
– Позволь! – перебил его Фидий. – По чьему поручению ты действуешь?
Перикл гордо вскинул голову:
– По своему собственному! Но когда меня изберут стратегом[94], я уговорю демос, чтобы было начато восстановление Акрополя.
– Ты в этом уверен? Но ведь Кимон[95] пользуется благоволением демоса. Он богат и щедр. И, насколько мне известно, не собирается на покой.
– Ему придется уйти! – уверенно произнес Перикл. – Демос не нуждается в щедротах частных лиц. Щедрым к своим неимущим согражданам должно быть государство. Я добьюсь, чтобы оплачивалось участие в работе суда. Бесплатным станет посещение театра, и тогда демос поддержит все мои планы.
Сколько лет прошло после первой встречи с Периклом? Фидий не мог этого припомнить. Ведь мерой отсчета в его жизни были не годы, а творения его рук, статуи. Они встретились незадолго до того, как он начал работать над колоссальной бронзовой статуей Афины-Воительницы. Для Перикла же время измерялось постановлениями, предложенными им демосу и ставшими при его поддержке законами. Перикл вырвал суд из рук ареопага, оплота аристократии, и передал демосу. Был изгнан Кимон, безмерно богатый, настолько же щедрый и одновременно ограниченный и малообразованный; скорее спартанец, чем афинянин.
Изгнание Кимона совпало с завершением работы Фидия над статуей Афины-Воительницы. Она поднялась над Акрополем, уже очищенным от обломков. Повернув голову, Владычица как бы охватывала взглядом весь город, и в ее неподвижном взгляде можно было уловить призыв. Как бы подчиняясь ему, в Керамике и других городских районах, заселенных ремесленниками, мастера одевали кожаные фартуки, повязывали волосы лентами и шли на Агору. Их ждали там Перикл и Фидий. Разделив мастеров на отряды, они повели их на Акрополь, чтобы начать труд, который прославит величие афинской демократии, ее победу над хаосом, в который были ввергнуты Афины, захваченные врагом, великое единение демоса, освобожденного от внешнего врага – персов – и внутреннего – аристократии.
Древний город, воодушевленный планами Фидия и Перикла, перестал походить на самого себя. Он превратился в огромный эргастерий[96], заполнившись стуком молотов, шумом раздуваемых горнов, визгом пил, скрипом колес. Из Пентеликона, где в недрах горы добывался прекраснейший белый с голубыми прожилками мрамор, в телегах везли заготовки из мрамора в виде барабанов для будущих колонн. Могучие быки, до того как их впрягли в телеги, паслись на склонах Марафона и, как говорят, происходили от того огнедышащего быка, которого убил под Марафоном великий афинский герой Тесей. Под огромной тяжестью колеса входили в каменистую землю, высекая искры. Путь от Пентелекона до Афин обозначила глубокая колея[97].
Со стороны моря, из Пирея, на повозках, запряженных мулами, везли медные слитки из Кипра, кедровые доски из Ливана. Всем запомнился день, когда Пирейской дорогой прошли в Афины чернокожие рабы со слоновьими бивнями на плечах. Казалось, сама Ливия[98] прислала Афине свои дары! Но так мог думать лишь случайно затесавшийся в толпу чужеземец. Каждый афинянин знал, что три года назад из Пирея в Египет была отправлена триера с тридцатью эфебами на борту. Им предстояло пройти по Нилу к его загадочным верховьям, чтобы там поразить целое стадо слонов и отнять у лесных великанов бивни. Где же эти смельчаки? Да вот они идут, обожженные до черноты ливийским солнцем, едва узнаваемые в своих пестрых одеждах, в сандалиях на невероятно толстой подошве из шкуры гиппопотама[99]. Их всего семеро… Остальные раздавлены слонами, утонули в Ниле или просто не вынесли тяжести пути. Кто знает?
Но всем известно, что на ливийскую охоту было затрачено двадцать золотых талантов[100], и вот разгорелся спор, во сколько раз окажется дороже слоновая кость для лица и обнаженных частей статуи Владычицы, чем золотые пластинки, из которых будет составлена ее одежда.
Все афинские граждане уже знали, как в общих чертах будет выглядеть статуя, которая должна украсить новый храм Афины. Ведь Фидий представил десяти стратегам, а затем Совету пятисот и народному собранию ее модель в человеческий рост. Одобрение было дано. Но ему предстояло не только увеличить эту модель в семь раз, не только заменить воск, дерево и глину золотом и слоновой костью. Он должен был найти вместо условного обозначения женского лица такие его неповторимые черты, такое выражение, которое вобрало бы в себя и образ богини, созданный мифом, и его собственное понимание красоты. Таких статуй еще не создавало греческое искусство. Все олимпийские богини старых мастеров – Афина, Артемида, Афродита – были похожи друг на друга, как сестры-близнецы. Они одинаково улыбались. Улыбка была как бы приклеена к нижней части их лиц. Она должна была придать их лицам движение, а придавала какую-то искусственность, натянутость. Улыбались одни губы, а глаза и щеки оставались серьезными. Неумение художника передать игру человеческих щек и глаз обедняло божественный облик. Все в мире изменяется. Ничто не стоит на своем месте. Почему же должно оставаться неподвижным искусство, созидающее божественную красоту?
Эти мысли одолевали Фидия, когда он работал над мраморной головою Афины, которой предстояло стать моделью для деревянной головы, обтянутой пластинками из слоновой кости. Пол мастерской был завален обработанными кусками мрамора. Фидий никак не мог отыскать подходящий образ.
– Сколько камня ты уничтожил! – воскликнул Перикл, посетив мастерскую.
Он наклонился над мраморной головой с надбитым носом, поднял ее и стал рассматривать, поворачивая из стороны в сторону.
– Чем тебе не понравилась эта голова? – спросил стратег.
– Видишь ли, – протянул Фидий, – в ней чего-то не хватает. Но я могу ошибаться.
– А мне она нравится. В ее лице какое-то благородство. Мне кажется, что она не афинянка. Такой разрез глаз бывает у эллинских женщин, чьи отцы или деды были лидийцами[101]. Может быть, это правнучка Креза[102].
– Действительно, это неплохо! – сказал Фидий, ощупывая пальцами мрамор. – Только придется несколько удлинить лицо и сделать круче нос. Приходи, мой друг, через месяц. Я поработаю над этой головой…
Занятый работой – кроме головы Афины, ему приходилось разрабатывать эскиз скульптурного украшения фриза[103] будущего храма, – Фидий не заметил, как прошло два месяца. И он не ведал о том, что в Афинах, и не только в Афинах, во всей Элладе, имя Перикла уже соединяли не с его именем, с именем Аспасии. Перикл и Аспасия! Аспасия и Перикл!
О, эти женщины! Греки верили, что от них все беды. Ведь не какой-нибудь бог, а терзаемая любопытством Пандора[104] открыла ларец, в котором были заключены все людские пороки, несчастья и болезни, и они перешли к людям. Как будто она, Пандора, а не боги виноваты в этом несчастье? А Елена? Ведь ее Гомер сделал виновницей гибели Трои, хотя она была похищена Парисом и прибыла в город Приама не по своей воле. Аспасия явилась в Афины из малоазийского города Милета сама, чтобы полюбоваться статуей Афины-Воительницы. На Акрополе ее увидел Перикл и, пораженный ее красотой, не мог отвести от нее глаз. Первый стратег отослал свою нелюбимую жену и взял в дом Аспасию. Такова история знакомства и любви Перикла и Аспасии, как ее рассказывают умные и независтливые современники. Иные же говорят, что милетянка околдовала Перикла и будто бы все несчастья Афин от нее.
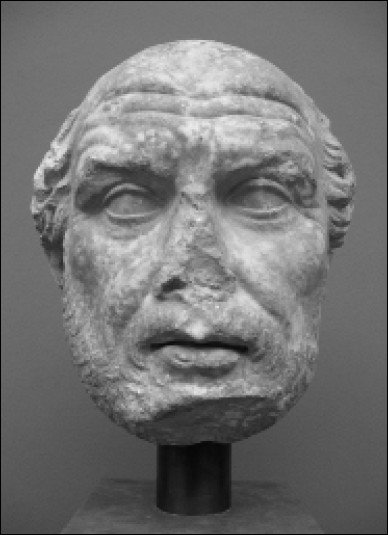
Фидий. Римская копия греческого оригинала III в. до н. э.
Фидий ничего не знал об этих пересудах, так как ушел с головой в работу. Но однажды в мастерскую пришел Перикл, и не один! При виде Аспасии ваятель вздрогнул.
– Это моя госпожа Аспасия, – проговорил Перикл, сдерживая себя. – Она хотела познакомиться с создателем Афины-Воительницы в день своего первого посещения Акрополя. Но мы решили тебе не мешать…
Между тем Фидий бормотал себе под нос, не отводя от Аспасии глаз. Потом он поднял руку и, шевеля пальцами, что-то ощупывал в воздухе.
– Аспасия, – продолжал Перикл с натянутой улыбкой, – не удивляйся! Мой друг видит тебя впервые и, наверно…
– Не то! – перебил его Фидий.
Он отдернул полотно, накрывавшее мраморную голову.
– Не находишь ли ты, Перикл, что моя Афина похожа на твою госпожу? Приглядись!
– Поразительно! – воскликнул Перикл. – Те же слегка удлиненные глаза. Но что скажут афиняне?! И так меня обвиняют, что я поддерживаю неверие в богов и поощряю безбожных философов. А увидев твою Афину, меня обвинят в кощунстве…
– Но я могу представить свидетелей, – вмешалась в разговор Аспасия, – что меня никто не видел. Если дело дойдет до разбирательства, в твою защиту выступят всеми уважаемые афиняне, Софокл, Гипподам[105], которым я много раз говорила, что хочу познакомиться с Фидием. Мое сходство с моделью Фидия случайно.
– Случайно ли? – усмехнулся Фидий, обратив взгляд на Перикла. – Ты же сам отыскал мраморную голову, ставшую мне моделью. И похоже, что она сделалась моделью и для тебя.
Аспасия обворожительно улыбнулась:
– Значит, Фидий, я обязана своим счастьем не кому другому, как тебе.
– Видимо, это так, – проговорил Перикл. Но лицо его было серьезно. На гладком лбу обозначились морщины.

Фидий показывает друзьям, в том числе Периклу и Аспасии, фриз Парфенона. Художник Л. Альма-Тадема. 1868 г.
– И все-таки, Фидий, – проговорил он после долгого молчания, – сделай так, чтобы сходство не бросалось в глаза.
– Это нетрудно, – сказал Фидий. – Смотрите.
Пройдя несколько шагов, он поднял с земли бронзовый шлем и накрыл им голову Афины.
– Восхитительно! – воскликнула Аспасия. – Я всегда знала, что петас[106] изменяет внешность, но шлем делает ее совсем неузнаваемой. Смотрите, как эта женщина с моим лицом превратилась в воинственную амазонку.
– А мне теперь жаль, что наши потомки через многие годы будут только слышать о красоте Аспасии, – сказал Фидий. – И также несправедливо, что, посещая Парфенон, они не увидят тех, кто его создал.
– О чем ты, Фидий? – испуганно спросил Перикл.
Фидий вместо ответа улыбнулся.
Прошло еще три года, и на Акрополе вознесся величественный храм Афины Девы, Парфенон. Его воздвигли архитекторы Калликрат и Иктин, но скульптурное украшение фриза и фронтонов принадлежало Фидию и его ученикам. Рукою мастера он намечал фигуру, указывал ее место среди других, а ученики завершали работу. Иногда в готовую статую ваятель вносил поправки, так что могло показаться, что все скульптурное обрамление Парфенона принадлежало одному Фидию. Фидий был очень требовательным, но справедливым учителем. Он ценил в юношах талант и творческое горение, ненавидел лесть, не принимал от учеников подарков. Всем запомнилось, как он выгнал богатого кораблевладельца Афенодора, который хотел изменить с помощью даров отношение к его сыну Менону, старательному, но неспособному ученику. Фидий стал поручать Менону такие несложные работы, которые мог выполнить любой ремесленник, а потом и вовсе отказался от его услуг.
Освящение храма произошло во время праздника Великих Панафиней[107]. В ночь 28-го числа месяца Гекатомбеон[108] в городе проходил бег с факелами. Победителем считался добежавший первым с непогасшим факелом. На заре участники праздничного шествия собирались в Керамике. Из специального здания у Дипилонских ворот доставались используемые каждый год священные сосуды и иная утварь. Глашатаи по указанию жрецов в белых одеждах, напоминающих одеяния на статуях, указывали порядок, которому должна была следовать каждая группа участников торжества. Впереди шли юноши, несшие модель корабля, на мачте которого, в виде паруса, развевался сверкающий золотом пеплос[109] богини. Девять месяцев его ткали непорочные девы, лучшие мастерицы города. Это одеяние в день Панафиней должно было покрыть плечи богини, которая сама считалась величайшей из мастериц. Юные ткачихи вкладывали в пеплос все свое старание и мастерство, но никому не приходило в голову хвастаться своим умением. Все помнили, как поступила Афина с хвастуньей Арахной: она превратила ее в паука.