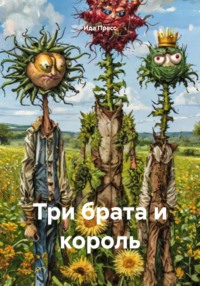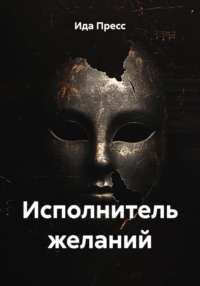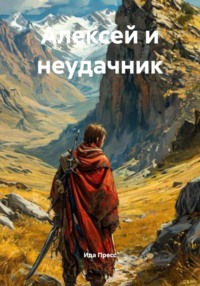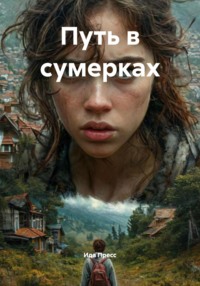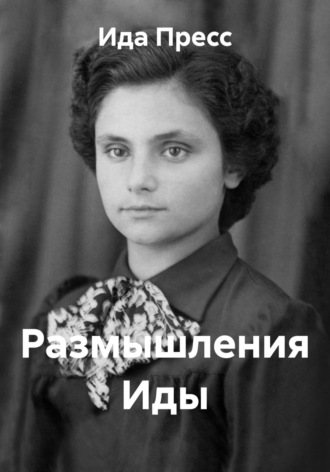
Полная версия
Размышления Иды
Ну и ну! Поразмыслив, я приняла сторону деда: уж он-то в охоте толк знает. Если я с Ювалем по три раза на дню дерусь, то с чужими и подавно может не сложиться дружбы.
Ох уж этот братец мой. Было дело: вернулись мы из леса с черемшой, много её что-то насобирали. У меня она была в авоське из старой сети, а у Юваля – вот мудрец! – вывалилась во дворе из подола рубахи, завязанной на пузе узлом, а из той кучи юзом вылезла змеюка, тонкая, в две мои ладони длиной. Мы замерли в ужасе, а она, извиваясь на песке крюком, стремительно улепетнула со двора, только мы её и видели. Вечером я рассказала про этот случай деду.
Он хмыкнул и стал поучать:
– Кто в траву голыми руками лезет? Только дурень, и то не всякий. Палка на что? Пошуруй ею, змея не дура – сама уползёт. Это хорошо, что на полоза вы напоролись, а ежели б гадюка там пристроилась?
– Откуда ты знаешь, что это полоз, а?
Дед фыркнул, но объяснил:
– В эту пору только полозята в две твои ладошки. Только, видать, народился. А гадюка, не будь дурой, обязательно укусила бы.
Через неделю Юваль опять учудил. Надо сказать, что мама и Алтан работали почти без выходных, от восхода до заката, в редкие же дни отдыха – колхоз им давал два дня в месяц на «отсып», чтобы кое-как прийти в себя, – они спали обычно до самого обеда, потом вставали и порывались что-то сделать по дому. Дед Баир шумел, громко ругался по-бурятски и загонял обеих сначала в баню, потом обедать и пить чай, затем опять спать.
Мы привыкли к почти полной самостоятельности и многое сами делали по дому, но до дойки дед меня допускал нечасто: силёнки в руках не было ещё. Зато наш Юваль-молодец быстрёхонько пронюхал, где в сарае стоят кринки со сметаной и варенцом, и наведывался туда время от времени. В один из отсыпных маминых дней встала она неожиданно рано, решив сделать саламат и нажарить сырников, и пошла за сметаной, которой оставалось с прошлой недели где-то с полкринки; вступив в темноту сарая, она почувствовала чьё-то присутствие и решила, что это колонок или рыжая шарятся в поисках съестного, и палкой заколошматила по пустым чугункам. Но вместо четвероногих разбойников мимо неё с воем пронёсся Юваль, – в темноте он наткнулся на косу, опрокинул её и распорол пятку до кости, так что кровь тонким ручьём стелилась за ним по траве, а он бежал, не разбирая дороги и подскакивая на бегу от боли и ужаса.
– Юваль, остановись! Остановись, я тебя не трону! – кричала мама что есть силы.
Ногу ему лечили почти месяц, до середины сентября, и он пропустил всё самое интересное. А я с моей бандой увязалась вслед за колхозной бригадой в кедровник и две недели жила в балагане полной дикаркой, за столование помогая в сборе орехов и прочем.
Работа эта только кажется лёгкой. Сначала колотом стряхивают шишку на землю. Мы, ребятня, собираем её и несём к лущильному станку. У станка двое ребят, самых сильных, крутят ручки барабанов, и шишка летит в одну сторону, а орех с шелухой в поддон. Орех ссыпают в грохоты и трясут, а потом ещё и веют: бросают из совка на холстину, натянутую между двух деревьев, с тем чтобы освободить его от последнего сора.
Калить решили тоже на месте. Нечего тащить необработанный орех в посёлок, где дел невпроворот. Прокалённый орешек ссыпали в короба и мешки, – получилось много, даже пришлось в сусеках часть оставить. Обоз из трёх полностью нагруженных телег отправился в посёлок.
Подходили к концу последние мои относительно вольные дни. В октябре меня ждали школа и ученическая бригада. Все мы теперь знали: всё для фронта, всё для победы!
ХХХ
Наше звено из всего класса самое дельное. Остальные просто штаны протирают и сами ничего придумать не могут, головы из сена.
Мы после уроков подшиваем и штопаем колхозные мешки, мальчишки рубят лапник. Потом идём все вместе к трём колхозным лошадям, над которыми у нас шефство. К пяти часам можно расходиться по домам, но никто не уходит. Вместе делаем уроки, подметаем полы и топим печку в свою очередь, а если очередь не наша, то в счёт дополнительных обязательств учимся прясть и вязать, – нашему звену поручено к зиме научиться вязать носки. Трудно же это некоторым даётся!
Жизнь идёт своим чередом. Рано ударили морозы, а ещё все кругом только и говорят: Сталинград, Сталинград. Что за Сталинград? Наконец все узнали, что Сталинград – это котёл. Какой ещё котёл и почему все так радуются? Ничего не понятно.
Ну, ясное дело, наш колхоз и несколько соседних взяли повышенные обязательства, и теперь все соревнуются друг с другом. Да куда им, непутёвым, за нами-то успеть! Напрасные старания.
Весной стало необычно шумно в посёлке. Приехала неизвестно откуда целая орава, молодая, голосистая и без царя в голове, как дед Баир сказал. Это оказались вольнонаёмные, которые подрядились на рыбзавод в надежде убежать от голода, давно поселившегося в их голоштанных колхозах. Нам от этих переселенцев вышел один вред. Сначала подселили к деду трёх девиц, худых, как жердь, и горластых, что твой грач весенний, – они перевернули в доме всё, а делать ничего не умели. А затем нас и вовсе турнули в бараки, сказав, что жить теперь у Баира будут «специалисты». Вот, значит, каких специалистов ценных откопали.
Нам пришлось обживаться на новом месте, в наспех сколоченных сараюхах, которые ни одна печь протопить не могла толком; общими усилиями нескольких эвакуированных с детьми, которых повыгоняли из колхозных изб так же, как и нас, утеплили эту шарабуду и как-то приспособились. Долго мы вспоминали деда Баира и Алтан, с которыми не расстались, несмотря на переселение.
На озере почти сошёл лёд, и зеков погнали к тоням ставить сети. Как-то утром в воскресенье Станислав предложил мне пойти на берег, чтобы посмотреть, как зеки будут вытаскивать омуля: они, стоя по пояс в воде, тянули сеть и ухитрялись съесть, не прячась от конвоя, по три-четыре сырые рыбины.
– А что я там забыла? – спросила я недовольно. – Или ты доходяг никогда не видел? Тоже мне невидаль.
Станислав, долговязый и тощий, в куцем свитерке, из рукавов которого вылезали длиннющие руки, – они вечно молотили воздух бесцельно, как будто жили отдельно от хозяина – задышал прямо мне в ухо и возбуждённо, с присвистом, зашипел:
– Айда смотреть: вдруг какой-нибудь вытащит рыбу на берег? Вот потеха будет!
Это уже было полным свинством. Все мы знали, что зекам позволялось есть омуля, пока тот был в воде, но стоило кому-нибудь из них припрятать рыбёшку, выйти с ней на берег и при обязательном шмоне быть пойманным с поличным, как для такого бедолаги начинались последствия, которые могли на берегу же и закончиться: конвой его бил смертным боем, чем попало, от кулаков до прикладов.
Я возмущённо отстранилась от нахала. Бледное веснушчатое его лицо, острые скулы и тонкий нос, при первом знакомстве позабавившие меня, вдруг стали мне неприятны.
Захотелось уязвить его больнее, и я спросила:
– А когда тебя с мамой везли сюда, ты наверняка в три горла жрал? Небось ещё и отказывался от пайки, если без повидла давали?
Станислава аж затрясло. Мы знали, что его младший брат умер по дороге в Сибирь и на какой-то глухой станции иссохшее его тельце вытащили из вагона и сбросили на сани, на окоченевшие трупы прочих несчастных, умерших голодной смертью в пути, – больше мать и старший брат его не видели.
Он завыл, закружился на месте юлой, сверкая блекло-серыми глазами, которые были у него от природы узкими и колючими, но от внезапной обиды вдруг расширились и прямо заполыхали адовым огнём, и стал по-польски облаивать меня, иногда даже вспоминая про собачью кровь, – думал, наверное, что я ничего не разберу по незнанию. Но я-то от мамы знала немного польский и всё разобрала, поэтому, услышав знакомые выражения, не раз доводившиеся мне слышать в словесных перепалках родителей, мгновенно вцепилась в нечёсаные патлы этого любителя острых зрелищ и с силой выдрала из них клок волос, отчего Станислав застыл сначала, прямо как охотничий кобель деда Баира, а потом взвыл от боли. Я, долго не раздумывая, побежала к баракам, иногда оборачиваясь и показывая Станиславу язык, а он, сначала предприняв вялую попытку догнать меня и отлупить, потом почему-то передумал и только грозился издалека кулаком. Кулаки-то у него были крепкие.
А потом вышел мне случай пожалеть Станислава. Прибыл на остров одноногий капитан в выцветшей шинели, сухой, почти скелет, с каменным лицом, обтянутым бронзовой от ветров и солнца кожей, – ну ни дать ни взять кощей, только железных доспехов ему недоставало. Приехал и тут же шмыгнул к председателю, а из правления они вместе пошли на школьный двор, где мы почти всей школой чинили колхозные сети.
Одноногий не стал никого агитировать и ни с кем из наших мальчишек по отдельности говорить, только после короткого нервного разговора с председателем велел троим бурятским пацанам через неделю быть готовыми к отъезду в Иркутск. Оказалось, что он набирает ребят в ремесленное училище.
– Я на фронт поеду скоро, а не в вашу шарашку подъедаться, – заявил отчаянно самый старший из выбранных.
Одноногий усмехнулся и отчеканил:
– Успеешь ещё навоеваться. Надо, ребятки, и здесь научиться фрицев бить. А кто это сделает, кроме вас? Танки и пушки сами собой не построятся, и сейчас ваш фронт здесь, самый настоящий боевой фронт. Так-то вот, ребятки.
От этих его слов повеяло разумом и человечностью, и наши мальчишки притихли. Случайно я зацепила взглядом Станислава и обомлела: вечно бледное его лицо стало почти пунцовым, весь он сжался, выставив худые острые плечи вперёд. Глаза ему застило горькой солёной пеленой, и оттого он часто-часто моргал, словно хотел вытравить случайную соринку.
Ходу ему с острова не было, как и другим спецпоселенцам, и он это знал. Мальчишки, которых отобрал одноногий, через неделю отправились в Иркутск; мы провожали их всей школой, а они, стоя на берегу в ожидании карбаса, весело и шумно обсуждали обещанные одноногим форму, ботинки и какой-никакой паёк, в котором даже могли быть сахар и сухари.
Наших Станислава и Марека тоже распределили: Марек отправился в столярный цех сколачивать ящики, а Станислава зачислили в «упряжные», как сказал наш председатель; оказалось впоследствии, что упряжная эта должность хуже каторги.
Я уже два раза видела, как лошадки, по две в каждой упряжке, тянут крылья сети из воды, а в ведомых у них выступают мальчишки. Попал в такую команду и Станислав. Со стороны непонятно было, кто кого погоняет: то ли лошадёнки тянут трясущихся от недостатка сил погонщиков, то ли, наоборот, те принуждают идти вперёд, до полного схлёста крыльев, измотанных коняг.
То-то досталось Станиславу нашему. Я с ним помирилась.
В июле явился на остров какой-то неведомый «красный крест». Комендант ходил по баракам и всем эвакуированным велел заполнять карточки: кто откуда приехал, когда, сколько в семье человек, где они работают, кем. Вот чудак. Чего там выяснять, когда в нашем бараке все из Пскова и ехали все в одних теплушках. Примерно каждого десятого в потусторонние миры вознесли немцы, – их убило при бомбёжках, а ещё столько же ушло в пути от разных событий, большей частью от смертельных ранений.
Я видела, как просветлела лицом мама, когда комендант ушёл. Непонятно было, чему она так радуется. Все стали писать эти карточки по очереди, одним химическим карандашом, выданным комендантом. Дела пошли весело: стали говорить, что войне скоро конец, раз уж всех начали переписывать, что прижали Гитлеру хвост, – сдохнет скоро тварь, давно черти на том свете ждут вонючего выродка.
Я и сама воодушевилась, поддавшись всеобщему возбуждению и светлым ожиданиям, – а вдруг мы скоро поедем домой, в милый Псков, вдруг доведётся ещё мне увидеть родных и друзей, оставшихся там? Посмотрела я на маму и поняла, что и она думает о том же самом, только боится почему-то говорить об этом.
ХХХ
Вот уже и весна сорок четвёртого года. Я и Юваль в школу не ходили, потому что учителей не осталось. Их всех призвали или определили на рыбзавод, а потрёпанный сарай, именовавшийся школой, приспособили под засолочную. Вечерами с нами занималась учительница из эвакуированных, которой за труды колхоз определил пособие в виде солонины и молока.
Май выдался жарким, светлым и ярким, и наша банда, приободрившаяся после зимних холодов, иногда, в ставшие редкими часы отдыха, вылезала на берег, чтобы побегать, проваливаясь в вязкий песок и увёртываясь от холодной волны, поорать и побеситься вволю.
Худосочная Лайма, запрокинув голову и стряхнув со лба пряди цвета пшенной крупы, встала на большой камень и заголосила:
Встану я на бочку,
Посмотрю на небо, -
Не идёт ли «Ангара»,
Не везёт ли хлеба.
Вот тоже мне, артистка из погорелого театра. Словно не знает, что «Ангара» эта, ржавая посудина, привозившая на остров муку и прочее, притрюхает ещё не скоро, а в пути успеет отсыреть и провонять плесенью, как будто плыть ей пришлось по меньшей мере из Америки.
Хлеба нам доставалось совсем мало, но спасали озеро и лес, щедрые на рыбу, орехи, черемшу, ягоды. Баирова родня иногда угощала нас ухой и копчёной рыбой, а ещё говядиной.
Вот и сегодня позвала нас Алтан на двор к своему троюродному брату. К назначенному времени мы помчались к нему всей бандой, гадая на бегу, что нам достанется на этот раз. Решили сократить путь: после коровника и сетевязки побежали не через луговину, а повернули к сосновой роще, где колхоз сажал свои худосочные огороды. Из сарая, в котором держали всякий хлам, вроде прохудившихся корзин и ржавых лопат, высунулась и уставилась на меня страшная невообразимая харя: то ли человек, то ли чёрт, в драной лохматой козлиной шкуре, вся увешанная древними склянками и побрякушками. Мне в первую секунду показалось даже, что вместо рук у этой образины копыта, а на башке рога. Образина увидела меня, затрясла башкой и нырнула обратно в сарай, а я, выйдя из остолбенения, с воем понеслась прочь от страшного места, обогнав всю компанию.
Очутившись во дворе у бурят, я осипшим голосом поведала Алтан, что увидела в лесу.
Алтан выслушала меня недоверчиво, затем призадумалась и спросила:
– В шкуре, говоришь, был?
– Да, и с рогами! А ещё копытами бил и башкой тряс, точно как козёл, и рожу мне такую состроил, как будто съесть меня хотел!
– Так может, это и был козёл, а ты с перепугу приняла его за человека?
– Как бы не так! Я что, по-твоему, не могу козла от не пойми чего отличить? Козлы на двух ногах не ходят и двери копытами не открывают.
– Это, по всему видать, шаман тебе встретился. Он ведь может и волком, и козлом прикинуться и напугать до смерти, если случайно ему помешать. Наверное, кормил духов, а ты тут как тут с ребятами, вот он и высунулся из сарая.
– Какой ещё шаман? Это чёрт был, самый настоящий чёрт! Больше никогда через лес этот не пойду.
Алтан рассмеялась, а я в ответ обиженно надула губы, вспомнив ещё раз мерзкую рожу. Эта картина никак не выходила у меня из головы. Она была намного страшнее того, что я увидела затем во дворе, после того как убили бычка.
Буряты молниеносно его зарезали – он и понять ничего не успел – и поднесли к его шее жестянку, наполнившуюся кровью. Они разлили кровь по кружкам и тут же её выпили, став краснолицыми и довольными.
Изумлению моей банды, впервые увидевшей, как пьют кровь только что порешённой животины, не было предела, а я уже несколько раз видела это и оттого осталась равнодушной к странному обычаю бурят.
А потом все мы получили по приличному куску горячей варёной говядины, размером примерно с мой кулак. Съесть сразу сокровище было верхом глупости; все мы имели опыт долгого недоедания, подходившего временами к голоду, и поэтому с рачительностью взрослых, расчётливых до скупердяйства, принялись за дело: отщипывали от куска по чуть-чуть, клали в рот и обсасывали с наслаждением, до конца принимая в себя бесподобный ароматный вкус, и только потом жевали.
На исходе бабьего лета мы, собрав кедровый урожай и вернувшись из леса в бараки, опять повстречались с Алтан, которая сообщила, что уезжает в Иркутск учиться на шофёра. Горю моему не было предела. Расставшись с дорогой моей Алтан, я до вечера проревела в своём углу, а утром сказала маме, что хорошо бы и мне с Ювалем поехать куда-нибудь учиться, ведь война когда-то кончится. Как в воду я глядела.
ХХХ
Объявление о победе в войне я помню хорошо: враз по посёлку прокатился ошалелый рёв, все повыскакивали на улицу, как мы когда-то выскакивали из теплушек при бомбёжке, и забегали словно ошпаренные, крича и плача одновременно.
Председатель объявил выходной и разрешил всем выпить первача. Женщины окружили его и принялись качать, а он тряс счастливо головой и ревел навзрыд, никого не стесняясь.
Никогда я не забуду этот день. Пройдут годы, а я буду помнить его до мелочей: и светлый чистый рассвет, и шелестевшую на ветру траву, и посёлок, содрогавшийся от криков наших родителей, и шумящие сосны на берегу, и пенистые поющие волны, и ощущение великого счастья, охватившего всех нас.
В сорок шестом году, когда разрешили писать всем подряд, а не как в войну – только на фронт, мама решилась искать родню, которая могла невероятным каким-то чудом у нас сохраниться. Она выпросила у председателя почтовые карточки и написала своему брату Ефиму в Москву, надеясь, что он и его семья живы.
Счастливый случай был на нашей стороне, но выяснилось это не сразу.
Я глядела на строчки нехитрого письма, выплывавшие из-под её пальцев, огрубевших от вечной работы, и радовалась каждой букве, появлявшейся на свет, – а вдруг и выйдет что? Вот только адрес совсем странный: Москва, Солянка. Что ещё за солянка?
– Мам, разве дядя Ефим может в солянке жить? – огорошила я её, и она от накатившего смеха выронила карандаш.
– Солянка, Ида, – это такая улица в Москве, очень знаменитая. И твой дядя, между прочим, не последний в Москве человек, раз ему в самом центре квартиру дали.
– Солянка в центре Москвы? Ну и ну! А что он там делает, дядя мой?
– Хватит ерунду болтать! – рассердилась мама.
Моё любопытство на этот раз пришлось ей не по душе.
С того дня всё наше семейство ждало ответа из Москвы, надеясь на чудо. И оно всё-таки случилось.
Письмо от дяди Ефима пришло через две недели после Нового года, но обратный адрес поставил маму в совершенный тупик, потому что в нём значилась не Москва, а какой-то неведомый город Клин. Что это за Клин, даже моя всезнающая мама не знала.
Разъяснилось всё это только спустя четыре месяца в дядиной клинской квартире, когда мы, сидя на продавленной тахте в гостиной, услышали его рассказ о нашем розыске.
Ответить на мамино письмо он никак не мог, потому что в сорок пятом партия направила его в этот самый Клин на оборонный завод – что-то строить и восстанавливать. А он ещё раньше додумался искать нас через Красный Крест и – вот удача! – нашёл-таки. Нашёл на другом конце страны, на Ольхоне, о котором никогда не слышал и который буквально спас нас от голода и бесприютности, как и многих других, кто смог убежать от войны и не был убит по дороге.
Городок с ноготок
«Роза, письмо тебе! Письмо!» – загрохотала Стешка, колхозная учётчица, как ураган влетев в наш барак. Она, выпучив глаза, и без того бывшие у неё навыкате, неслась по проходу и, пока добралась до нашего закутка, переполошила всех, даже почти глухую нашу соседку. «Чего орёшь-то, заполошная? – закаркал с верхних нар дед Максим, считавшийся у нас за старшего по бараку, пока женщины были на работе. – На засолке она, лёд крошит в бригаде. Ишь разоралась, чтоб тебя леший съел!» Стешкин крик сразу прекратился, а мы, побросав дрова, которые складывали горкой у железной печки, рванули к маме на засолочный участок, бывший не близко – на краю посёлка, почти у леса; бежать, а точнее, протаптывать путь до него в плотном оледеневшем снегу нужно было с полчаса, потому что намело за ночь сугробы, высившиеся боярскими шапками, нам по пояс.
«В правление бегите, письмо там!» – заголосила опять Стешка.
Мы её услышали уже на улице.
Вернулись мы в барак только вечером и стали читать письмо дяди Ефима по второму разу, – первый раз прочли маминой бригаде, которая слушала нас в полной тишине, при этом даже бригадирша не возмутилась, что прекратили колотить молотками и возить на тачках ледяную крошку в чаны. Как оказалось потом, наша семья была первой, которую отыскали на «земле», как называли у нас всю земную твердь, что была не на острове.
Дядя написал коротко: велел нам не тянуть со сборами в дорогу и ехать к нему в Клин как можно скорее.
Он сообщил, что осенью сорок первого года его с семьей эвакуировали в Свердловск, через год призвали старшего сына Владимира, который в октябре сорок четвёртого пал смертью храбрых в Польше, а так все живы-здоровы и работают. «О чём же рассказать ещё – всего сразу и не расскажешь… – написал он в конце и подытожил: – Вот приедешь, Роза, и всё сама узнаешь».
Да, скорый на подъём наш дядя. Он считает, видимо, что нет ничего на свете такого, что могло бы задержать человека на месте. Выехать с острова сразу нечего было и думать. Нужно было получить разрешение комендатуры, а потом ждать санного поезда, который раз в месяц отправлялся на большую землю. Полтора месяца мы ещё пробыли на Ольхоне, и только в конце февраля с грузом солёного омуля уехали в Иркутск.
Прошло всего-то пять лет, из них три с половиной пришедшихся на войну, и вот я опять очутилась в бело-голубом звенящем морозном тумане, окутавшем городские дома и ледяной росписью полёгшем на окна.
Неделю мы жили на вокзале в ожидании поезда до Красноярска. По вокзалу ходили обглоданные кочевой жизнью типы с хмурыми лицами, шныряли между узлами и баулами, охраняемыми бабами и ребятишками, и иногда в разных закутках этого человечьего муравейника раздавались перемежаемые оглушительными воплями крики, примерно такие: «Ой, люди, украли! Украли всё, ироды!»
Иногда урок удавалось ловить, и кончалось всё по-разному: одних избивали в кровь, и они, ползая по захарканному полу и выплевывая выбитые зубы, затем кое-как по-обезьяньи приподнимались, выкатывались за дверь и забивались в разные вокзальные закоулки, чтобы отдышаться, а иные, кто сразу после битья вставал на ноги, бежали в свои норы, грозясь навестить фраеров попозже, чтобы поставить их на ножи; некоторые ускользали из общей свалки и оставались невредимыми, и тогда толпа, матерясь и костеря бездеятельную милицию, расползалась по своим семействам и тревожно затихала на время.
Но были и смертные случаи, один из которых мне запомнился. Поймали молодого урку почти в середине зала и принялись в злобном молчании забивать его кто чем: бабы разрывали ногтями лицо и одежду, а мужики с размаху били сапогами – или вместе, или по очереди, не обращая внимания на то, что урка уже даже мычать не мог. Мёртвое тело продолжали молотить до тех пор, пока подоспевший наряд не выстрелил в потолок и матом не разогнал толпу. На полу в луже крови остался лежать труп без лица и с лопнувшим животом, из которого вылезли кишки.
Урки и после этого случая наведывались на вокзал, надеясь на удачу и собственную прыть, закалённую лихой жизнью, – они видели сотни смертей и не боялись ни чёрта, ни милиции, ни голодной толпы. Шептались, что с ленских приисков их убежало немало и что спасались они от лагерных сук каких-то.
Мы и большая белорусская семья решили держаться вместе: дети сели в середину на родительское добро, а взрослые расселись по кругу. Так было легче ходить за кипятком и отоваривать карточки. Хлеб нам удалось получить только один раз, и мама призадумалась: что же такое происходит?
Она вспомнила вечер перед отъездом с Ольхона и в душе ещё раз поблагодарила нескольких женщин, с охотой помогавших ей укладываться, – оказалось, что некоторые их советы помогли нам не остаться ни с чем. Сухари, солёный и вяленый балык, вяленая говядина, кедровые орешки упрятаны были в зашитые сумки, а эти сумки, в свою очередь, были положены в середину двух подушек, набитых для маскировки соломой, – вору трудно будет догадаться, что там есть ценное по нынешним голодным временам пропитание. Больше ничего у нас не было значительного, кроме денег и карточек, которые мама спрятала в потайной карман, пришитый к нательной сорочке.
Были ещё две котомки из козлиных шкур, скреплённых жильной ниткой, – в них была всякая мелочь, нужная в дороге, довоенные фотографии и некоторые документы, которые были всегда при маме и поэтому не сгорели с остальными вещами в первый день эвакуации.
И всё-таки одну из котомок у нас украли. Случилось это в поезде, отошедшем – вот же судьбы насмешка! – из Саранска и ни шатко ни валко дотащившем нас до Москвы. В утащенной котомке были наши метрики, о чём мама сокрушалась больше всего. Она погоревала-погоревала, да и забыла: всё же самих нас урки не тронули и мы почти без потерь доехали до столицы.