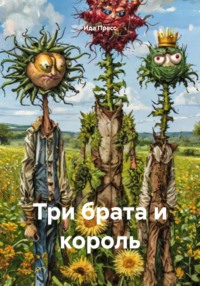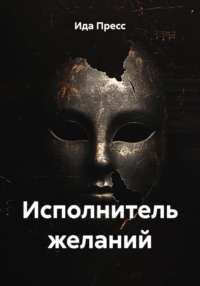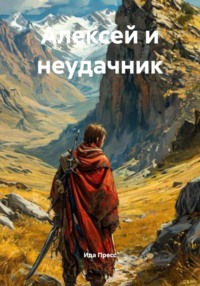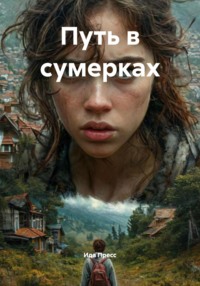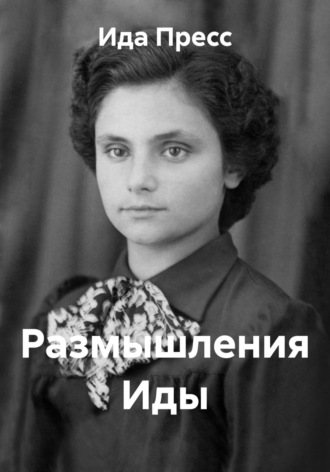
Полная версия
Размышления Иды
По завершении уборки оказалось, что оба мы герои, за что получили по кусочку жареной рыбы, названия которой дед нам не сказал.
Ближе к обеду пришли к нам две женщины: то ли старухи, то ли молодухи, – не поймёшь, до того они были перетянуты шерстяными платками от пояса до головы поверх тулупов, под которыми угадывалась другая плотная одежда; походили они на расписных деревянных матрёшек, которых я однажды видела в Пскове, в магазине на площади. Они сказали, что настала очередь дедовой Гривке идти на работу.
Старик повздыхал, посокрушался, потом спросил:
– Куда её, голубушку мою?
– На соляную сначала, в чаны лёд возить, а потом сено со стогов для колхоза, – ответила та, что была выше и бойчее.
– Смотри, бабы, не застуди её, холодного пить не давайте. Она ещё с прошлого раза не отошла.
– Да будет тебе причитать, Баир, как будто в первый раз. Не упадёт твоя Гривка с натуги, мы же не на завод её тащим.
– А что, там падала какая?
– Да всякое говорят, мы не видели.
На том и закончился их разговор.
Уходя, молчавшая женщина глянула на меня так, как будто что-то в уме прикидывала, и дед накинулся на неё:
– Что нацелилась? Мала она ещё, не видишь, что ли? Ни на сетку, ни на разделку не поставишь: за ящиком не видно будет.
– Сегодня мала, а завтра в самый раз. Ишь какая глазастая, того и гляди дырку просверлит.
– Глазастая она с голодухи, а не из любопытства. А за своим разом через три года придёшь.
Женщины ушли со двора, а старик наш сокрушённо глядел вслед уводимой ими Гривке, каурой низенькой кобыле, ещё не старой, но уже заезженной постоянной работой.
Юваль покосился на меня, думая, чем же я так заинтересовала этих женщин, и спросил деда:
– А почему они твою лошадку увели, деда Баир?
– Всё она, война проклятущая. Сначала мужиков, которые покрепче, забрала, а потом и лошадки ей понадобились. На нужды фронта да на заводы много коников увели. Те, что остались, за троих пашут.
– Значит, твоя Гривка на фронт работает?
– А как же! Мы сейчас все вроде как на фронте. Только война у нас трудовая. Лениться некогда.
Мы многозначительно переглянулись, поняв, что старик сказал сейчас очень важные слова и что они напрямую касаются и нас. Мне захотелось сейчас же, сию минуту, продолжить трудиться и что-нибудь серьёзное сделать для деда, Алтан и мамы. Детским своим умом я поняла, что прежние беспечные времена ушли навсегда и никогда уже не вернутся. Но я не жалела об этом.
Дед занялся устройством кровати для Алтан, сколотив из оставшихся досок и чурбачков совсем низкий топчан, вроде того, что сделал вчера для нас, только узкий; войлока у него не осталось, и он, поразмыслив, скрепил верёвкой две старые сети и набил в них сухого мха и сена, а сверху бросил древнюю драную шинель, неизвестно откуда взявшуюся в его хозяйстве.
Мы следили за дедом зорко, запоминая, что к чему можно приспособить в той необычной для нас крестьянской жизни, которую мы за два дня успели если не полюбить, то хотя бы проникнуться ею, – это нужно было сделать, нужно было учиться всему быстро и с охотой, которую я вдруг почувствовала в себе.
ХХХ
После обеда старик показал нам, как топить печь и какой запас дров около неё всегда нужно иметь, а потом полез на свою лежанку, решив немного отдохнуть. Он закрыл глаза и вспомнил свою жизнь.
Баир не знал, когда родился, но припоминал: когда в тринадцать лет отец вручил ему первое его ружьё, то сказал, что родился он в один год с царём. Отец и дядья были из зажиточных, но желали большего, чем просто иметь хозяйство и не знать нужды. Для этого требовалось иметь свое обзаведение для промыслов и завязать дружбу с купцами и богатыми промысловиками, которые каждый год по весне прибывали на Ольхон, таща за собой на пароходах и карбасах целую армию жилистой ангарщины – голодранцев перекати-поле, не имевших ни кола ни двора, беспаспортных и прочих всех мастей, а то и беглых, которым от отчаянной жизни было всё равно, как окончить свои дни: утонуть или повеситься. Они нанимались в рыбацкие артели в Иркутске и работали на острове до первого льда, от оглушительно тяжёлого труда и неустроенности спасаясь водкой и крепким табаком. Ангарщина, вечно голодная и крикливая, рассаживалась на берегу, как стая бакланов, спала и ела в дощатых балаганах, сколоченных наспех и продуваемых насквозь, а по вечерам пьяными криками оглашала окрестности. Нередки среди босяков были и драки, доходившие в иных случаях до убийств.
Цыден, отец Баира и брат старосты улуса, смотрел на действия пришлых с практической точки зрения: он понимал, что добывать рыбу, нерпу, пушного и иного зверя, а потом сидеть на всём этом добре, чтобы в конце концов продать за смешные деньги оглоедам из Иркутска, по крайней мере, неразумно. Родовые тони на Малом море стали сдавать в аренду, но с условием, чтобы и самим ставить сети беспрепятственно. В иные годы омуль, сиг, хариус, ленок шёл тучей, и одного этого было достаточно, чтобы на ближних ярмарках закупаться всем необходимым и приумножать нажитое.
Устроили вместе русскими старателями, пришедшими с Лены, с наёмного бестолкового труда, две мастерские – бондарную и корабельную. Это было правильным решением, которое впоследствии оценил весь род. Купцы часто экономили на перевозках и загружались под завязку, что было очень опасно. Они надеялись на русское «авось» и совершенно не учитывали непредсказуемый нрав байкальских ветров, которые творили что хотели не только зимой, но и по весне, когда начинался ход рыбы. После нескольких случаев гибельных крушений спрос на карбасы, сооружённые опытными мастерами Цыдена, вырос в разы, а бочки и без всяких крушений покупали охотно. Цыден разбогател и позволил себе обучение двух младших сыновей в уездном училище, а исправник, купеческий старшина и казачий атаман здоровались с ним за руку.
Любимый младший сын Баир проучился до семнадцати лет; в вакации неизменно уходил с частью родни и русскими охотниками за Малое море, в приангарские зимовья, где учился всему: установке капканов и самострелов, выслеживанию по приметам, подлёдной рыбалке, осенней охоте «на реву», самой сложной и одновременно считавшейся самой добычливой в этих местах. Он и был удачлив во всём, но совершенно не кичился этим, понимая, что только товарищество и взаимовыручка могут принести успех и не позволят сгинуть.
Подзывая изюбря, он нисколько не сомневался, что тот приведёт не одного, а трёх-четырёх своих соперников, которые глупо будут бодаться за самку. Часть охотников оставалась в лесу, а остальные шли к Ангаре стрелять утку, которая шла с перелётов, осаживалась в зарослях близ берега и нагуливала жир к долгой зиме. После сентябрьской охоты промысловики опять разделялись: несколько человек везли на остров солонину, шкуры и копчёную утку, а остальные шли на иркутскую ярмарку, где уже ждали их купцы, чтобы скупить по уговору большую часть заготовленного мяса. Октябрьская ярмарка была самой шумной и хлопотливой. Много чем нужно было запастись, чего на острове не было: крупой, плиточным чаем, табаком, мануфактурой, солью, порохом, сухарями, картофельной мукой, необходимым инструментом и прочим. Баиру нравилось в городе, но лес и озеро он любил больше. Его отроческие годы были прекрасны, а наступившая юность сулила яркое счастье, которое для него заключалось в свободной жизни умелого рыбака и охотника.
Все времена года на Байкале чудесны, все по-своему одаривают неленивого и сметливого. В начале ноября Баир опять перебирался на зимовья – стрелять косулю, кабаргу, зайца, промышлять пушного зверя, в особенности соболя, белку, лису; обильно шёл в капканы горностай, колонок, ласка, попадался и средний зверь – росомаха, поганая в своих привычках и угодная охотнику только поистине царским мехом, ценившимся превыше всякого другого.
В марте всей ватагой сначала уходили в Иркутск пополнять запасы для хозяйства, а потом переезжали на Ольхон и оставались там до августа, выезжая только на култукскую ярмарку. В Култук везли рыбу, нерпичий жир, живых осетров, которых обкладывали снегом и мокрым мхом и по дороге опускали в продушины для «отдыха». Такие путешествия сами по себе были большим искусством и требовали от обозников особой выдержки и крепости духа. Достигнув села, Баир с товарищами на два дня поселялся у местного проводника, дожидаясь того же, чего ждали и все местные жители, – хлебного обоза и контрабанды из Китая. Местным крестьянам продать рыбу было невозможно: они сами ловили её, арендуя тони у архиерейского подворья. Всё сбывалось скупщикам, слетавшимся в Култук со всего Прибайкалья, а также послушникам, которые сквалыжничали и торговались яростно, искуснее самого прожжённого купца в Иркутске. Баира это не смущало нисколько: к двадцати годам он усвоил все местные торговые премудрости и всегда выходил с прибылью.
До вскрытия льда выходил Баир в разведку на озеро, чтобы приметить нерпичьи лёжки. Лов сетью он не любил, думая, что толку от неё мало, и полагался только на надёжное ружьё и свой зоркий глаз. Положить хитрого и осторожного зверя нужно было с первого выстрела, чтобы подранок не нырнул в продушину, откуда достать его было делом невозможным.
Нерпа лежала у продушины, крутя мордой и принюхиваясь к ветру, чтобы при малейшей опасности сигануть в воду. Баир медленно, стараясь не выдать себя скрипом саней, замаскированных белым парусом, подходил на расстояние выстрела и целился в голову. Промахов у него не было. Щенков он не трогал, считая такую охоту подлым убийством, к тому же совершенно бесполезным для хозяйства, а вот обмануть взрослого одинокого зверя было делом серьёзным и уважаемым.
Когда же лёд расступался настолько, что можно было идти на лодке, наступали последние две-три недели ружейной охоты, опасной и для зверя, и для самих нерповщиков, вынужденных доставать трофеи, сходя на нетвёрдые уже ледовые острова.
Баиру полукочевая эта жизнь давалась в молодые годы почти легко; окружённый роднёй и товарищами по промыслам, он чувствовал себя как рыба в воде, понимая, что если подведёт охота или рыбы будет мало, то выручат иные доходы, приносимые крепким хозяйством. Отец, помимо мастерских, держал овец, коров и лошадей, а лес давал столько всякого рода припасов, что сидеть голодом нечего было и думать.
Он женился, но из дома не ушёл, как по обычаю сделали это старшие братья. Годы шли своим чередом, и ход их Баир воспринимал с благодарностью и надеждой, думая, что удача сестра постоянству и что род его ещё надёжнее укрепится в его детях.
Он стал первейшим башалыком в улусе, и слава бежала впереди него. Поговаривали, что Баир может по цвету воды определять ход рыбы, что считалось искусством сродни шаманскому. Он только посмеивался, узнавая от артельщиков про досужие сплетни, разносимые по острову его завистниками или же просто бездельниками, которые таким нехитрым способом оправдывали собственную лень и беспробудное пьянство.
Беда пришла, откуда не ждали. В гибельный шторм завалился на бок карбас, хлебнул воды и пошёл на дно, утянув за собой всю артель, в числе которой был Сухэ, младший сын. Неделю Баир выл и крушил всё вокруг себя, а потом всё же утих, внушив себе, что Сухэ забрал священный дух Байкала. Внука своего, которого успел народить погибший сын, Баир решил по примеру отца отдать в учение и отвадить от промыслов, посчитав, что такой знак дал Байкал.
А потом наступили иные времена, и Баир подумал, что мир за озером поразили все болезни разом. Новости приходили одна нелепее другой, а что было в них правдой, никто из родни поначалу не мог разобрать. Войну, случившуюся на следующий год после трёхсотлетия романовского дома, он встретил с безразличием: из семьи некого было призывать. Две его дочери рано овдовели и жили с детьми у мужниной родни, а старший сын, ставший единственным после гибели Сухэ, не подлежал воинской повинности.
Но вскоре Баир призадумался. Сначала исчезла ангарщина, – её и след простыл, а потом дощатые бараки на берегу напрочь снёс Сарма, как будто почувствовал, что никому они больше не понадобятся. У знакомого трактирщика Баир узнал, что мануфактурщики получили большие подряды на обмундирование и потому перешли с рыбацких сетей на шинели. Пароходный флот, какой имелся, почти весь был отдан военному ведомству, как будто война началась в Иркутске, а не на другом конце света. Рыбу и меха стали брать меньше и с неохотой, хотя доставались они промысловикам всё тяжелее и тяжелее: трудно стало готовить зимовья, делать необходимые припасы, да и рабочих рук почти не осталось.
Баир всё больше и больше хмурился, чертыхаясь почти от каждой новости из губернии. Ему стало понятно, что прежние времена уплыли навсегда, а сюрпризов от новых приходится ждать с опаской. В настоящем же наступили полный бардак и неопределённость. Это было хуже любых дурных, но понятных и устоявшихся времён; никто ничего не знал и не мог с уверенностью сказать, что будет дальше.
Так и случилось. Начались перебои с хлебом, стало исчезать из лавок то одно, то другое, и даже обычная нехитрая контрабанда из Китая приходила с большими задержками, что давало пищу для многочисленных сплетен и кривотолков, с невиданной скоростью распространявшихся по губернии. Обычные мыло, соль, керосин стали редкостью. Баир не охотник был до сплетен, но и ему, приезжавшему иной раз в центр Иркутска по делам, охота было послушать, о чём шумит народ. Несколько раз он заставал крикливых депутатов у офицерского собрания и около городской управы: они с визгливым воодушевлением ратовали за единение славянских народов и за веру народную.
Тогда-то Баир и понял, что дело скорее плохо, чем хорошо. Стало на улицах тише, а в трактирах шумнее; казаки с хмурыми лицами объезжали город и тихо матерились время от времени, – им предстоял призыв, которому мало кто был рад.
В шестнадцатом году действительность, как чёрт из табакерки, всё больше и больше сюрпризов преподносила обывателям, и даже прибайкальские деревушки, которых отродясь ничего не касалось, кроме прибытков от тайги и озера, глухо загудели в нехорошем предчувствии.
Трактирщик опять по секрету шепнул Баиру, что будет ещё призыв, но ему-де волноваться нечего: сына если и заберут, то в запасные, а это всё равно что в денщики к офицерам, – никакой тебе строевой, тем более фронта. Баир слушал, кивал головой, соглашаясь, но лицом всё больше и больше мрачнел.
На этот раз раздумывал он недолго. Приехав с артелью домой и сделав необходимые дела и распоряжения по хозяйству, сказал он сыну, что тому нужно срочно собираться в дорогу: идти сначала до Верхнеудинска, а оттуда идти на Селенгу с монгольским караваном. В караванщиках у Баира был верный друг, и сыну объяснять ничего не надо будет, а лишь сказать, что отец решил присмотреть подходящее место для торговли, потому что в Иркутске дела пошли плохо. Два смышлёных артельщика в помощники сыну согласились идти охотно: Баир не пожалел денег, снаряжения, оружейного припаса и прочего, лошадей дал сильных трёхлеток и наказал провожатым по дороге не трепаться ни с кем о цели похода. Да и без его наставлений всё они поняли.
Через год явился в Култук из самой Даурии ободранный горластый солдат, отставленный по болезни, – «Горлом хрип пошёл, чуть не задохнулся», – врал он в трактире – и возвестил, что в Петербурге скинули царя, а более власти никакой не стало. Солдата взял казачий разъезд: оказалось, что он дезертир и разбойник, которого подельники выкинули за воровство у своих же и напоследок душу вытрясли, избив до полусмерти.
Особых беспорядков в связи с отсутствием законной власти не случилось, разве что разогнали городскую думу и управу и хотели отменить воинское присутствие, но казаки его отбили.
Следующие три года Баир в город не выезжал, посещая только зимовья да посёлки на побережье, в которых ещё кое-какая торговля была жива.
Ничего из того, о чём орали оборванцы всех мастей, наводнившие байкальский берег в надежде как-то перебиться в лесу и избежать голода, погромов, мобилизации, объявлявшейся то Колчаком, то казаками, то анархистами, то большевиками, то вообще откровенными бандитами, душу его не трогало, – эти бесы с их пустопорожними разговорами смотрели только, где что плохо лежит, и при малейшей возможности тащили чужое добро, чтобы продать его расплодившимся в городе спекулянтам, залиться водкой и не думать ни о чём.
Родня, да и он сам, потихоньку перешла на скотину, лесные заготовки, скромные охоту и рыбалку. Дел меньше не стало, – стало, наоборот, труднее, но это было лучше, чем лишиться имущества и самой головы в городе, по которому шастали мародёры, ворьё и экспроприаторы всех мастей.
Баир был доволен, что получал вести от сына, у которого всё-таки пошла торговля, и что в собственном хозяйстве складывались дела неплохо.
А потом свалились на Иркутск и остров комиссары. Эти были хуже весенних волков, а повадки их были сродни росомашьим. В первые годы они просто разбойничали, потому что, как рассудил Баир, совсем не представляли себе, долгой ли будет их сила и не найдётся ли кто-нибудь упорнее и злее их. Но не нашлось таких. Остатки семёновцев и колчаковцев ушли в Монголию, предоставив красным огромный край на растерзание.
Понаблюдав за ними, Баир разделил их на три статьи, каждая из которых мерзка была по-своему. Первая отличалась от прочих тем, что бандиты, её составлявшие, на всякий случай имели в запасе «идею», которая гласила, что трудящиеся всегда правы, а они, вожаки трудящихся, правы вдвойне, поскольку защищают интересы обездоленных. Идейные грабили зажиточных, устраивали оргии и пьянки, в угаре стреляли в зазевавшихся прохожих, а в тёмных проулках так и просто давили машинами. В перерывах между разбоями эта публика выясняла, кто сколько душ отправил на тот свет во имя революции.
Вторая статья «чеки» отличалась от первой только тем, что никакой идеи у неё не было, – пошла она в этот революционный орган исключительно ради того, чтобы самой не голодать и быть на содержании у новой власти. От этих можно было откупиться, но вообще-то и они предпочитали убийства, чтобы не было лишних поводов для беспокойства. Сразу после экспроприаций они расстреливали вражеский элемент, который, по их словам, пытался не только утаить добро, но ещё и скрыться.
Личности, относившиеся к третьей статье, больше всего удивляли Баира. Это были подонки, не отягощённые ни идеей, ни чувством самосохранения, ни здравым смыслом. Они, как понял он окончательно, существовали во все времена и при всякой власти, нечеловеческую свою сущность вытаскивая на божий свет тогда, когда жизнь человека переставала цениться хотя бы сколько-нибудь. Эти убивали с садистским наслаждением, всегда и без всяких исключений.
Определив зверя по повадкам, Баир уберёг самого себя и родню от многих бед, которые постигли неосторожных. В Листвянке, довольно большом прибрежном селе, в котором обосновался Хубдай, сын погибшего Сухэ, донесли заезжему пропойце-комиссару: один зажиточный, якобы охотник, а на самом деле спекулянт, прячет в доме золотой запас, полученный от продажи лазоревого камня. Под вой и стенания родни выволокли бедолагу во двор, угостили шомполами, а потом, связав верёвкой ноги, головой вниз стали опускать в ледник «до полного осознания», которого тот так и не достиг, потому что умер с третьего удара о лёд. Комиссар от обиды перестрелял хозяйский скот и заодно всех мужиков, оказавшихся на свою погибель во дворе или поблизости, а потом неделю заливал горе водкой, клянясь собутыльникам, что изведёт всю контру в селе.
Какая тут торговля, когда чёрт копыта моет. Баир затаился: нет его, нет никаких прибытков, быть бы живу.
Так и таится он по сей день, держа в кармане фигу, а на людях да при власти горой стоит за новую жизнь, которая его обокрала.
В двадцать третьем году пришёл с Селенги сын, сокрытый от царской мобилизации, и поведал Баиру, что женился и четверо детей уже у него, трое из которых сыновья.
– Значит, у меня десять внуков теперь, – порадовался отец, затянулся из трубки, зажмурился и предложил: – Иди к семье скорее. Наш дом не озеро, а вся земля под небом до Китая. Золото, что тебе дам, спрячь надёжно, а ещё надёжнее прячься от чеки и всяких красных. Понял ты меня?
– Чего же не понять, отец. Я хотел сына забрать к себе, поэтому и приехал. Где он?
– Арья живет с матерью у Солонго, двоюродной сестрёнки твоей. Только ни к чему эти мысли, он уже не вольный. Пусть живёт как живёт, а ты живи по-своему и род береги. Золото трать с умом, широко не живи, с женой одной душой будь, – это всегда пригодится.
Непросто было Баиру советовать сыну идти назад одному. Он, насмотревшись на новые порядки, посчитал, что поступает верно с ним. Никогда впоследствии он не пожалел об этом.
Старик открыл глаза, сел на лежанке, свесив ноги, крякнул и довольно огляделся. Полежать бы ещё чуток, да некогда, – заботы завалят с головой, если расслабишься и уговоришь себя на временное безделье.
Он пошёл в сарай, и мы увязались следом. Протопали до двери и остановились, толкая друг друга и не решаясь войти внутрь.
Дед высунул голову, окутанную тёплым паром, мгновенно поднявшимся белым облаком на морозе, и заворчал:
– Чего встали? А ну айда смотреть, как Рыжуха моя копытом бьёт!
Рыжухой дед звал корову. А ещё были три быка и овцы, пять бестолковых созданий, воровавших друг у друга сено. Но дед их любил, полюбили и мы.
Мама и Алтан пришли с работы с почерневшими лицами, затряслись, обняв тёплую печку, и уселись на лавку; несколько минут в оторопи какой-то они бессмысленно оглядывали углы и только после этого сняли ватники, стянули валенки с ног, переобувшись в суконные боты, и сели ужинать.
Я уже знала, что работать придётся и мне, поэтому нужно было быстрее учиться всему тому, что умели делать девочки из бурятских семей. Надо было непременно научиться доить корову, чистить рыбу, варить обед, стирать, шить и вязать. Не знаю, понял ли что-нибудь Юваль. Он сидел совсем обескураженный и готовился зареветь, но я строго цыкнула на него, по примеру мамы.
ХХХ
Мы пережили студёную зиму, пронзительные весенние ветры, нападавшие на наш посёлок со всех сторон, и дождались благословенной летней поры, в которую полнота и безудержные желания природы настолько потрясающи здесь, на Ольхоне, что может показаться человеку, будто и он бессмертен.
Я, Юваль, литовка Лайма, поляки Станислав и Марек, оба старше меня на три года, а ещё Богдана и Христя, которые сами не знали, кто они, потому что мать их спецпоселенка ничего им не говорила и помнили они из прошлой жизни только вишню, вялившуюся на крышах, да васильковый луг у дома, – все мы сошлись в одну банду и шастали по острову от зари до заката, промышляя нехитрыми заготовками.
Под руководством одного из правнуков деда Баира мы быстро обучились всем изначальным премудростям рыбалки и собирательства и были относительно сыты. Всегда мы были при деле: забот по заготовке припасов было много, а ещё нужно было успевать с необходимой работой в доме.
Как и обещалось зимой, дали нам корову, которая поселилась в дедовом сарае на общих для всей колхозной скотинки правах. Сено и зелёнку для всего колхозного стада заготавливала специальная женская бригада, а квартировали бурёнки в стайках у «хозяев», которые имели право дополнительно их подкармливать. За это оставалось во дворах по полведра молока, остальное сдавалось колхозу.
После утренней дойки и других домашних забот собирались мы на окраине посёлка и шли на дело.
Хорошо утром в лесу. Сквозь сиреневую дымку, идущую от земли и поднимающуюся к небу между сосен, в чистом, невероятно ясном и гулком воздухе пробиваются и мелким решетом ложатся на траву первые солнечные лучи. Лес становится от этого прозрачным, воздух дрожит, как будто живёт сам по себе, а лёгкий ветер, идущий с ближних лугов, обходит пригорки, поросшие пурпурно-алым багульником, и гонит его аромат в глубину соснового бора. Сказочно терпким духом наполняется всё вокруг, всё трепещет и словно движется, а мы, очарованные, стоим несколько мгновений в полном оцепенении. Но уже нужно работать. Ищешь в роще островки, плотнее занятые черемшой, а мальчишки срезают лапник для коровников и бань; потом бежим все вместе на кряжистые возвышения и собираем цветы, выкапываем съедобные коренья. В иные дни и по два захода в лес делаем. Уже пошла черника, а за нею скоро придёт черёд подосиновикам, груздям, белым и кислой ягоде.
Затем идём к озеру. Ступаем по мокрому песку легко и высматриваем у камней взбугренные норки, где отлёживаются бычки, – их можно брать просто руками. Удрать они не успевают, потому что сонные.
Пришла мне мысль зачислить в нашу банду двух девчонок из соседней деревни, но дед Баир отговорил, сказав, что кто у шкур, того и мясо. При чём тут шкуры какие-то и мясо?
Спросила я об этом у него, а он ещё хитрее выдал:
– Долго делить будете, что наловите.
– Что наловим?
– А всё подряд. Потом ещё и виноватой окажешься. В большой охоте завсегда самый меткий виноват в том, что собаки не поспевают.