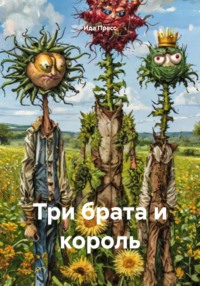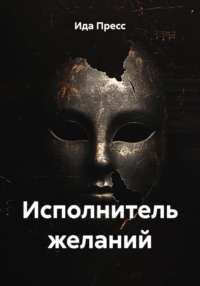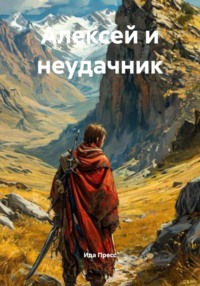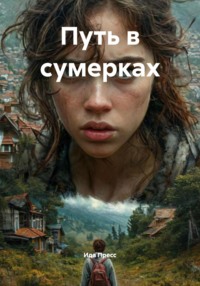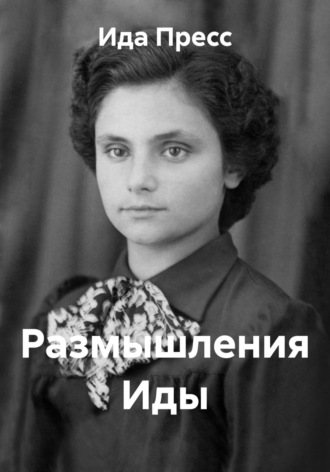
Полная версия
Размышления Иды
В сентябре мы проезжали мимо седых полей, которые никто не убирал, и кое-где видели всполохи пожаров и совсем выгоревшие деревни – начисто, до головёшек; потом, в один из по-летнему жарких дней, нас всех пересчитали и велели уплотниться, потому что в нескольких вагонах должны были разместить раненых.
Эта новость потрясла меня. Раненых и убитых гражданских было сколько угодно, но ни одного военного я ещё не видела, и мне было жутко интересно хотя бы одним глазком взглянуть на них. Этому не суждено было сбыться: опять старший наш всё испортил. Он строго приказал из вагона даже и не думать высовываться, иначе ему придётся принять меры к нарушителям и сдать их в комендатуру. Помню, это был какой-то совсем крошечный городишко, зиявший остовами сгоревших домов и пребывавший в полном разорении и ужасе. Это я разглядела через щербину в вагонной стене, после того как погрузили раненых и поезд наш с грохотом отошёл от разбомбленного вокзала, набирая постепенно скорость.
Я была полна гордости за себя и маму, потому что наши соседи как-то сникли, услышав про раненых, а мы отнеслись к этой новости без внутренней паники: я – скорее с любопытством, а мама почти безразлично, как будто речь шла об обычных пассажирах. В самом деле, чего ещё бояться, если мы уже всё видели?
Москву мы проехали ночью, – об этом только спустя два дня нам сказал старший. Никто вообще не знал, что мы миновали столицу; поэтому-то наш поезд в ту ночь пыхтел вовсю, стараясь не сбавлять скорости, чего никогда раньше не делал. Москву я представляла себе только по рассказам взрослых и ужасно была зла на вездесущего старика, старосту нашего. Я вообразила себе, будто он виноват в том, что не довелось мне увидеть этот сказочный город. Теперь всю жизнь придётся жалеть об этом! Я надулась и чуть не заплакала от обиды. Мама, взглянув на меня, поняла причину моих переживаний и, кажется, впервые за всё это время улыбнулась.
Она была очень добрая и умная, моя мама, и всё на свете понимала и могла объяснить, поэтому решила удивить меня:
– Я была в Москве. Ничего особенного, город как город. Когда ты вырастешь, то обязательно побываешь там. В Москве живут твой родной дядя Ефим и его дети.
У меня расширились глаза от этой новости. Юваль тоже навострил уши. Вот это да! А мы и не знали, что в самом красивом городе Земли, в великом городе, у нас имеются родственники!
Я была просто оглушена. Забыв моментально про войну и другие неприятности, мы с Ювалем принялись выяснять, сколько вообще у нас родственников и кто где проживает. Но поскольку знали мы очень мало, то эта затея нам быстро наскучила. Я всего-то насчитала девять душ, включая Юваля и родителей, а мой младший братец взял да и уснул при подсчёте. Какое нахальство!
ХХХ
Я не запомнила, когда нас перестали бомбить. Случилось это, кажется, ещё перед Москвой. Стояли последние дни бабьего лета, яркие и тёплые, в высоком небе проплывали белые плотные облака, а лёгкий ласковый ветер, проносившийся по равнине, наполнял наш вагон пряными запахами с увядающих лугов, мимо которых мы, очарованные этой мирной красотой, проезжали теперь без всякого страха.
На фоне этой божественной чистоты стало понятно, что мы насквозь пропитаны разнообразной вонью. Теплушки пропахли человеческой нечистотой, мёртвой хваткой вцепившейся во всех, но до поры до времени никого не беспокоившей; сейчас же, когда люди перестали прислушиваться к звукам извне, к этим ужасным звукам, нёсшим смерть и ужас, вдруг во весь рост предстала перед ними другая напасть, до этого прятавшаяся в потаённых углах и ждавшая своего часа упорно, с подлым злорадством.
Все в вагоне стали чесаться, а кое-кто просто ополоумел и бегал из угла в угол, яростно хлопая себя по ляжкам и прочим местам и поминая на ходу нечистого и всех прочих врагов людского рода.
Мама обеспокоенно оглядела меня и братца, качая головой и говоря про каких-то гнид. Что это ещё такое? Меня ужасно заинтересовали эти гниды, тем более что и все взрослые про них нехорошо говорили в перерывах между яростными расчёсываниями. Я с любопытством на всё это смотрела, а Юваль от испуга стал тихо подвывать. У брата глаза сделались круглыми и огромными, прямо как у нашего Васьки, когда он что-нибудь планировал стащить, а у него это не получалось, и вместо вкусной добычи он награждался веником по спине.
Наш свихнувшийся поезд приехал в Саранск и там застрял на двое суток. Старший сказал всем, чтобы взяли свои кошёлки и вышли на станцию, а если кто останется, то до самой Сибири не увидит бани. Сколько много новых, неведомых и загадочных слов! Они, как я поняла по маминой реакции, не несли никакой угрозы, а даже наоборот, означали крайне полезные вещи. Мама, услышав про баню, заулыбалась и, взяв меня и Юваля за руки, с охотой пошла за нашим вездесущим стариком-командиром. Вслед за ней и другие женщины повыскакивали из душного вагона.
Чудный этот Саранск был хорош уже тем, что никто не бегал сломя голову по станции. Старший гордо зашагал по хлюпающим доскам перрона, совсем как важный воинский начальник, и временами оборачивался, чтобы посмотреть на свой опаршивевший отряд и прикинуть в уме, все ли идут за ним и не отстал ли кто. Это было излишне: все помнили его грозные слова про Сибирь, до которой ещё нужно ухитриться доехать, да так доехать, чтобы тебя по дороге не съели вши и другая мерзость.
Мы дошли до приземистой хибары, облепленной со всех сторон чёрными от времени сараюшками, – это был пункт санитарной обработки, в котором меня и визжавшего от испуга и злости Юваля мама выскребла до красной кожи. Я вдыхала горячий пар и боялась, что в густой вязкой пелене, пахнувшей хозяйственным мылом, распаренными мочалками, дубовым крепким духом, исходившим от скользких половиц, я просто потеряюсь и мама не отыщет меня. Но всё обошлось.
А затем толстая женщина в огромных очках и белом глухом халате, завязанном тесёмками на спине, ловко орудуя машинкой, обрила меня и Юваля под ноль. Мама не стала бриться, – в общем-то, ей никто этого делать и не предлагал. Случилось другое. Я увидела, как она, взяв у толстой женщины ножницы, распустила тугой узел на затылке и обрезала в три маха чёрную, блестевшую, как воронье крыло, копну роскошных волос, а затем со вздохом кинула её в общую кучу. «Взять-то не хочешь, что ли? – спросила маму толстуха. – Смотри, потом жалеть будешь. Из твоей гривы можно рукавицы вязать. Забирай, дурёха, пока санитары не стащили». Мама, услышав толстухин совет, обрадовалась и забрала свою красоту обратно, положив её в сумку.
Нашу одежду, которая ко дню приезда в Саранск превратилась в отвратительно вонявшие лохмотья, мы больше не увидели. Вместо неё нам выдали серое бязевое бельё не по размеру, отдававшее каким-то гадким запахом, – то ли дёгтем, то ли скипидаром, и стопку верхней одежды; кроме того, мы получили чоботы, как назвала эту обувь мама. Мои башмаки оказались крепкими, словно сшили их из бычьей кожи, и хорошо даже вышло, что они мне были немного велики: мама в них сунула стельки из обрезанного мочала, и я смогла ходить и даже бегать почти легко.
Я и брат приободрились настолько, что даже стали хвастаться друг перед другом своей новой одёжкой. Юваль, разумеется, выглядел нелепо: на нём были широкие суконные брюки, заправленные в боты с высокими голенищами, которые по причине отсутствия шнурков мама обмотала шпагатом и завязала спереди тугим узлом, фланелевая рубашка, явно на вырост, – в неё могли поместиться, как я подметила со смехом, два моих братца, и драповый бушлат неопределенного цвета, такой же бесформенный, как и остальное его одеяние. Мне повезло больше: всё же кофта, юбка, шерстяные рейтузы и ватник, доставшиеся мне, почти подходили по размеру и в общем создавали впечатление такое, что их пусть и небрежно, но подобрали по фигуре.
Мамину стать никакие безобразные тряпки не могли умалить. Ей определены были ватник, из которого в нескольких местах вылезали серые клочья, рубашка, чулки и шерстяная юбка мышиного цвета, которую вместо пояса мама подвязала выпрошенными у толстухи обрезками из солдатских брюк.
Всё это богатство досталось обитателям вагона по ордерам, которые полагались нуждающимся эвакуированным, как вечером рассказали нам сведущие люди. Мы чрезвычайно были рады тому, что нам что-то полагалось, потому что дни раз за разом становились холоднее, зарядили дожди, а по утрам мы часто просыпались в почти промёрзшем вагоне. Слабосильная печка, которую затащили к нам на одной из станций, явно не справлялась со своими обязанностями, хотя пыхтела и трещала что есть мочи.
Пошли за окнами сибирские просторы. Утренние туманы здесь были таинственными, глухими и плотными, совсем не как у нас во Пскове, и это поначалу сильно пугало меня и Юваля. Мы привыкли к ясным осенним рассветам, пусть даже они и не обещали тёплого дня, а здесь всё было не так, всё играло по-другому: промозглый рассвет мог обернуться по-летнему жарким полуднем и затем опять смениться серой пеленой, наступавшей совершенно внезапно.
В вагоне у всех, в том числе и у детей, появились дела. Люди, отошедшие душой от возможности внезапной гибели, караулившей их первые два месяца вынужденного путешествия по взятой врасплох стране, теперь поняли, что придётся жить изо всех сил, бороться за своё пребывание на земле. Никто не жил обособленной жизнью, все с охотой стали помогать друг другу: кто-то чинил обувь, кто-то изготовлял из щепок и проволоки немудрёный инвентарь для шитья и вязания. Как назло, почти ни у кого не оказалось в багаже даже простых иголок, а ведь нужно было подшивать и штопать одежду, доставшуюся по ордерам.
Оказалось, что у нашей мамы есть редкий и очень необходимый людям талант: она могла буквально всё из одежды починить или подогнать по размеру. И вот весь вагон, увидев в один из дней, как ловко мама перешила брюки и рубашку Ювалю, потянулся к ней с заказами на починку и пошив. Несколько женщин, мастериц-вязальщиц, распускали на пряжу некоторые свои вещи и вязали из них носки и душегреи, чтобы затем обменять это добро на что-нибудь пригодное для себя. С грехом пополам этот товарообмен уберёг нас от неминуемых простуд. Начинались нешуточные заморозки по ночам.
В Новосибирске мы пробыли целых три дня. Мимо нас в разные стороны нескончаемым потоком шли составы, а по свободным путям сновали толпы народа в ожидании очередного эшелона, идущего на восток. Мама, присмотревшись к этой суматохе, нахмурилась, о чём-то важном думая, и приказала нам сесть рядом с Натальей Сергеевной, молодой женщиной, с которой она подружилась, увидев в ней сестру по несчастью. Пошушукавшись с ней пару минут, мама вылезла из вагона и направилась к толпе, облепившей бревенчатую развалюшку, – это были барахольщики, которых мы за пару месяцев научились безошибочно определять. Они никуда не спешили и вели себя тихо и обдуманно. При них ничего из вещей и продуктов не было, – всё было припрятано в только им известном потаённом месте, о котором невозможно было догадаться постороннему человеку.
Это был нагловатый и уверенный в себе народ. Мама, собравшись с духом, подошла к тощему вертлявому парню, – он, ничем не выделяясь из общей массы менял, всё же на вид был пронырливей остальных.
Парень глянул на неё прищуренными кроличьими глазками и осведомился:
– Не боишься, тётя? Одна сюда сунулась. У тебя, знать, свисток для милиции припасён, ишь какая бесстрашная.
Мама усмехнулась, давая понять, что и она стреляный воробей.
– А где же я найду ту милицию? Или вы думаете, что я вчера из дома вышла? Я от границы ехала и никого из властей не видела, кроме военных патрулей, молодой человек, – сказала она в ответ.
Она проговаривала каждое слово чётко и уверенно, с усталым безразличием смотря прощелыге прямо в глаза, и тот понял, что обмен состоится с невысоким процентом для него.
Он пробурчал:
– Ладно, пошутить нельзя, что ли? Всё мы понимаем. Всем жить как-то надо. Вообще-то мы эвакуированных не обижаем. Грех это.
Мама сообразила: не стоит этому удальцу говорить, что она едет дальше, сама не ведая куда.
Она обменяла несколько карточек и сережки с аметистами, подаренные папой три года назад, на шмат сала, десяток яиц и пять копчёных увесистых лещей. Сошлись ещё на трёх пачках папирос, которые пригодились бы в дальнейшем, как не зря решила мама.
Парень, довольно шмыгнув носом, поинтересовался:
– А из вещичек что-нибудь надо? Смотри, у нас зимы суровые, а у тебя башмаки скоро каши запросят, да и телогрейка на ладан дышит.
Мама отрицательно покачала головой. Что-то ей подсказывало, что зимние вещи добыть будет легче, чем продукты, и она не ошиблась.
На станциях кое-где стали давать суп и кашу по карточкам. Сибирь оказалась вовсе не так плоха и ужасна, как нам рассказывали о ней те, кто, скорее всего, никогда здесь и не был. Она была сурова, но по-своему справедлива, хотя и встретила нас довольно равнодушно. Крестьяне смотрели на нас оценивающе и примерялись к купле-продаже с хозяйской хваткой, но выжать последнее не пытались, понимая, что наш поезд не последний в их жизни. И мы стали смотреть на них, на широкие их лица, иногда простоватые, иногда с хитрецой, с пониманием, не осуждая и не проклиная их про себя. Да и какой толк был бы в таких мыслях? Всё, что мы видели вокруг себя, что постепенно стали ощущать, – картину великого народного бедствия, тревогу обывателей и сочувствие к нам, без вины виноватым, – одновременно и пугало нас, и поддерживало веру в то, что, бог даст, как-нибудь мы выживем, как-нибудь сумеем обустроиться в этом холодном краю, пока ещё чужом и неизведанном.
На одном из заснеженных полустанков под Красноярском состоялся главный наш товарообмен. Мама обменяла всё своё оставшееся золото, деньги и карточки за две недели на миткалевый отрез, две овчины и три пары валенок. Мы были спасены от жутких в этих местах морозов. За три дня работы получились у неё вполне приличные тулупчики для меня и Юваля, а миткаль, оказавшийся особо ценной вещью, сослужил нам неоценимую службу в будущем.
В середине декабря мы оказались в Иркутске. Это был последний город нашего большого путешествия по стране и ещё, к слову сказать, последний сибирский город, который довелось нам увидеть: в течение последующих пяти лет мы не выезжали никуда с острова, который буряты отрывисто называли Ойхэ, а эвакуированные на свой лад прозвали Ольхоном.
Но попали мы на Ольхон не сразу. По прибытии в заиндевевший от морозов и метелей Иркутск две недели нам пришлось мёрзнуть в поезде. Выходить в город и даже покидать вагоны не разрешалось, и мы все, от мала до велика, были в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Это неведение угнетало нас не меньше холода, тесноты и скудного пайка, но мы терпели, радуясь уже одному тому, что остались живы.
И вот в первый же день пребывания в столице Приангарья я увидела низеньких смуглых людей крепкого телосложения, с круглыми плоскими лицами, похожими, как мне подумалось тогда, на блины со сковородки. Движения их, несмотря на тяжеловесное обличье, были быстрыми и ловкими. Среди них довелось нам увидеть воистину богатырей, которые совершали с охапками дров, доставляемых нам, настоящие акробатические трюки. Мы, вначале оробев от их необычной внешности и манеры общения, очень непосредственной, как у детей, вскоре перестали их бояться, поняв, что они искренне расположены к нам. Так мы узнали бурят и впоследствии, живя с ними бок о бок, сдружились настолько, что стали общаться без предубеждений и ложных страхов.
Взрослые спрашивали у бурят, когда же повезут их куда-нибудь, а те в ответ то ли хмурились, то ли улыбались по-своему, но всегда неизменно начинали оживлённо переговариваться между собой, обсуждая один очень важный вопрос, смысла которого никто из нас не понимал. Вопрос, как стало понятно нам через какое-то время, заключался во льде. Этот лёд должен был где-то устояться и не вызывать сомнений в своей надёжности.
Однажды в кипенно-белое от стужи утро, добавившее страху ещё и начавшейся злой пургой, нас посадили на широкие сани, по шесть-семь человек на каждые, и повезли из Иркутска. Дорога, начинавшаяся в плотном лесу, стеной стоявшем по обеим сторонам, стала нырять то в круговерть пологих сопок, то в степь, голую от края до края. Она казалась нам бесконечной и опасной, но мы, глядя на возниц-бурят, внутренне настроились на удачный исход этого путешествия.
Пришлось нам нелегко. На подъезде к большому посёлку, где-то в семи часах езды от Иркутска, вдруг ни с того ни с сего подул ледяной ветер, и нам пришлось пережидать начавшийся буран в больших бараках, которые только казались просторными, – из-за набившегося в них народа вскоре дышать практически было нечем. Нам повезло: мы устроились у оконца, чуть приоткрытого на улицу. Здесь мы переночевали. Нечего было и думать о дальнейшем путешествии в этом снежном аду.
Ветер буянил всю ночь, но под утро всё стихло, и мы продолжили свой путь.
Только к вечеру, когда уже ничего не было видно в нескольких метрах от саней, наш обоз заехал то ли в деревню какую-то, то ли в небольшой городок, – ничего нельзя было разобрать. На этот раз ночевали мы в сараях, пропахших кислым конским духом и солёной рыбой.
Утро выдалось невероятным – солнечным, каким-то по-весеннему ярким и свежим. Мы наслаждались картиной, открывшейся нам. Перед нами, то и дело загораясь всполохами разных цветов, от нежно-голубого до алого, громоздились сбитые в кучи куски льда на берегу, а за ними, блестя ослепительным хрустальным покровом, до невероятно отдалённой линии горизонта простирался прекрасный величественный Байкал.
Наши сибирские годы
Мы ехали по берегу, петляя между обледенелыми сопками. Дороги здесь никакой не было. Но, несмотря на виляния из стороны в сторону, продвигались мы быстро. Буряты обходили сопки уверенно, со знанием дела, и нам оставалось только крепко держаться друг за друга, чтобы не вывалиться из саней на крутых заносах. Часа три мы ехали так, пока наконец не достигли места на берегу, от которого начался наш переход на неведомый остров.
Зимник представлял собою неширокую дорогу, довольно хорошо укатанную, – видимо, ею пользовались часто. Наши буряты вели сани смело и весело переговаривались, не оборачиваясь и узнавая друг друга по голосам. Их настроение передалось всем, кто сидел в санях: уж если возницы, коренные жители этих мест, не видят ничего страшного в путешествии по льду, укрытому снегом, то и им не следует этого опасаться.
Вскоре, однако, наша вера претерпела серьёзное испытание. Это было так неожиданно, что я в первую минуту испытала откровенный ужас и никак не могла поверить, что увиденное мною вовсе не сказка, а самое обыденное дело в этих краях. Метрах в десяти от саней мы увидели вмёрзшую в лёд лошадиную тушу, основательно закоченевшую, – снег на ней не осел, как это было бы, если бы лошадь умерла недавно.
– Мама, что это?! – спросила я, от страха запинаясь.
Затем голос у меня от увиденного пропал, а Юваль так и вовсе зарылся в солому и заныл. Но мама сохраняла спокойствие, хотя я уловила, что эта картина поразила и ее.
Наш возница, молодой улыбчивый бурят, поняв, что всех шокировало увиденное, внёс ясность и успокоил на свой лад народ, – но, кажется, сделал ещё хуже. От его слов кое-кто даже из взрослых оцепенел. «Э, ничего страшного! – скороговоркой заговорил он на русском, который неплохо знал. – Чего испугались? В этом месте опасно, лёд играет. А лошадь издалека видно, не промахнёшься. Мы так талые места помечаем».
– А почему же лошадью? – спросила, поёживаясь, молодая женщина с соседних саней. – Она же сама может утонуть. Или нет?
– Нет, не утонет, чего ей тонуть! – засмеялся в ответ парень.
Видно было, что говорил он искренне и был вполне опытен в зимних переездах по Байкалу. Наши страхи, как он рассудил, нужно было свести на нет подробным разъяснением.
– И все-таки, зачем нужно было лошадь сюда тащить, а не какой-нибудь шест или, скажем, бревно просто воткнуть в сугроб? – не унималась молодуха.
– А лошадь тяжелее, её ветер не утащит. Ветра у нас буйные, дерзкие. И потом, – бревно снег засыплет, и тогда как увидишь, где вода? – спокойно объяснил бурят.
От него исходили невероятная уверенность и спокойствие, и мы все окончательно уверовали в то, что нас ждёт благополучное прибытие на остров.
Темнело быстро. Очертания вблизи дороги становились всё более размытыми, а чуть поодаль и вовсе ничего нельзя было разглядеть. Мороз крепчал, и под санями с хрустом вдавливались в снег мелкие куски льда; от лошадей и от людей шёл густой пар. Начиналась противная позёмка, предвестница большой метели, но буряты были совершенно невозмутимы.
Впереди и по обеим сторонам от нашего обоза, на расстоянии, которое сложно было определить на глаз, вдруг показались прыгающие зелёные огоньки; они хаотично перемещались в густой черноте, накрывшей всё вокруг, и это было так весело и таинственно, что я и братец замерли и не шевелились, чтобы не спугнуть ненароком сказку.
Буряты зачем-то громко стали кричать и свистеть – как мне показалось, угрожающе – и выпустили с передних саней двух огромных лохматых псов, которые замотали свирепо мордами и показали внушительные клыки.
Они ещё и вооружились. Оказалось, что у каждого в санях было припрятано по ружью и по короткому толстому древку с железным острым наконечником, вроде пики. Я с интересом наблюдала за всем этим, никак не связывая приготовления бурят с зелёными огоньками.
Оказалось, что всё-таки эти сцены напрямую были связаны.
Один из взрослых спросил осторожно:
– От кого мы будем обороняться, если не секрет?
Наш молодой бурят хотел было пропустить этот вопрос мимо ушей, как я поняла по его лицу, но подумал и ответил равнодушно:
– Волки бегают. Надо пугать, а то могут близко подойти, лошадей испугают.
Все разом охнули, но молодой опять успокоил:
– Волк не дурак, он нас лучше видит, чем мы его. К саням не подойдёт близко, а будет бегать кругами и высматривать, кто отбился. Ничего не бойтесь.
Он оказался прав. Зелёные огоньки сопровождали нас ещё не менее получаса и отстали только тогда, когда обоз выехал на довольно широкую просёлочную дорогу, ведущую к деревне, очертания которой едва угадывались в темноте. Мы наконец добрались до первого поселения на Ольхоне.
Оказалось, что нас ждали. Разместили нас в двух больших, хорошо натопленных избах, дали каждой семье по тюку, набитому душистым сеном, и по одеялу из козьих шкур. На полу в нашей избе, во всю её ширину, был расстелен войлок, который накануне выбили во дворе, и оттого он пахнул морозом и снегом. Это был просто царский приём. Мы ещё и поужинали: всем досталось по кружке чая, забелённого молоком, из местных каких-то травок, ароматных до умопомрачения, по жареной ржаной лепёшке и по половине неизвестной копчёной рыбы в янтарно-жёлтой коже, с подтекающим под мякоть почти прозрачным жирком, – рыба эта показалась нам до того вкусной, что была сначала объедена до костей, а потом и костей от неё не осталось.
Раздавала еду совсем юная бурятка, по-девичьи хрупкая и тонкая, хотя во всей её фигуре угадывались сила и ловкость, данные этому народу от природы. С её широкого симпатичного лица не сходила улыбка, обнажавшая удивительно крепкие и ровные белые зубы, а в серо-голубых глазах то и дело загорались хитроватые искорки, – совсем как у лисицы, только ещё милее и приветливее. Она отличалась от других бурятских девочек, которых я успела повидать за время, прожитое на вокзале в Иркутске, и мне ужасно захотелось немедленно познакомиться с ней. Повод, чтобы сделать это, я нашла самый бесхитростный и по-детски нахальный. Я смело подошла к ней и попросила ещё чаю.
Девчонка совсем не удивилась, а только рассмеялась. Она подняла с печного приступка один из трёх чайников, огромных, смахивавших на титаны для кипятка, и налила в мою кружку густой красно-коричневый чай, исходивший неведомыми запахами, терпкими и одновременно сладкими. Ничего вкуснее я в своей жизни не пила.
– Не обожгись смотри, чай горячий, – посоветовала девчонка.
Она тоже, надо полагать, не прочь была поболтать.
– А из чего он?
– Я всего не знаю, что дедушка кладёт. Знаю, что там брусника, чабрец, солодка, золотой корень, ещё сушёная голубика. У дедушки спросить надо.
– Так это твой дедушка чай готовит?
– Чай я завариваю, а он сборы делает. Он травник хороший, у него весь посёлок травы на зиму берёт.
Я решила отойти от чайных вопросов и спросила, как её зовут.
– Алтан, – ответила она. – А тебя?
– А меня Ида. У меня есть брат Юваль. А нашу маму зовут Роза.
– О-оо! Какие у вас имена странные. Я таких и не слышала никогда.
Её удивление поставило меня в тупик. Я-то всегда считала, что раз мы так названы, то таких Ид и Ювалей полным-полно должно быть на свете. Ну ничего, я разузнаю у мамы, что за редкость такая на свете мы с братцем.