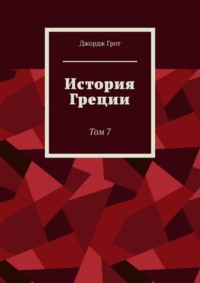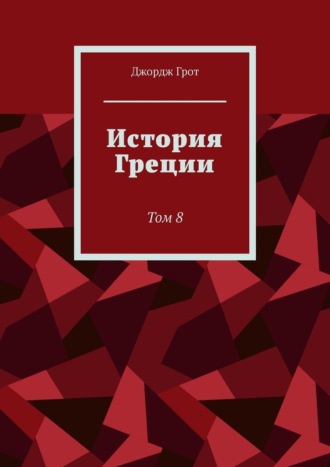
Полная версия
История Греции. Том 8
Учение Фрасимаха в «Государстве» Платона. – Такое учение не было общим для всех софистов – оскорбительным в нем является манера подачи. – Мнение Фрасимаха позже развито Главконом – с меньшей грубостью и большей логической силой.
Платон против софистов вообще. Его категория обвинений охватывает все общество, включая поэтов и государственных деятелей. – Несправедливо судить софистов или афинских политиков по стандартам Платона.
Платон прямо отрицает, что афинская порча должна приписываться софистам. – Софисты не были учителями пустых слов в отрыве от действия. – Общий положительный эффект их учений на молодежь.
Высокая репутация софистов – свидетельство уважения к интеллекту и хорошего состояния общественного мнения.
Глава LXVIII
СОКРАТ.
Различие в отношении к Сократу и к софистам. – Происхождение и семья Сократа. – Его физические и нравственные качества. – Ксенофонт и Платон как свидетели. – Их описания Сократа в основном согласуются. – Привычки Сократа. – Главные особенности Сократа. – Его постоянная публичность жизни и беседы со всеми без разбора. – Причина, по которой Сократ был выведен Аристофаном на сцене. – Его убеждённость в особой религиозной миссии. – Его даймоний, или гений – другие вдохновения. – Оракул из Дельф, объявивший, что никто не мудрее его. – Его миссия – разоблачать ложную мудрость других. – Слияние религиозного мотива с интеллектуальным поиском в его сознании – множество врагов, которых он приобрёл. – Сократ как религиозный проповедник, выполняющий работу философии.
Интеллектуальные особенности Сократа. – Он открыл этику как новую область научного обсуждения. – Обстоятельства, направившие ум Сократа к этическим размышлениям. – Границы научного исследования, установленные Сократом. – Он ограничивает изучение человеческими делами, в отличие от божественных – человеком и обществом. – Важность этого нововведения – множество новых и доступных явлений, введённых в обсуждение. – Методологические новшества Сократа – диалектический метод – индуктивные рассуждения – определения. – Начало аналитического осознания умственных операций – роды и виды. – Сравнение Сократа с предшествующими философами. – Огромный шаг, сделанный Сократом в закладке основ формальной логики, впоследствии развитой Платоном и систематизированной Аристотелем.
Диалектический процесс, используемый Сократом – неразрывная связь между методом и предметом. – Также неразрывная связь между диалектическим процессом и логическим распределением материала – единое во многом и многое в едином. – Убеждённость Сократа в своей религиозной миссии побуждала его распространять свою перекрёстную проверку на известных людей. – Его перекрёстный анализ не ограничивался знаменитостями, но имел универсальное применение.
Основные идеи, направлявшие критику Сократа – противопоставление специальных профессий и общих обязанностей общественной жизни. – Платоновские диалоги – обсуждение того, можно ли научить добродетели. – Мнимая учёность без истинного знания – её повсеместное распространение. – Такая уверенность без науки в то время относилась и к астрономии, и к физике, так же как к вопросам человека и общества – теперь она ограничена последними. – Сократ первым сформулировал идею этической науки, включающей соответствующую этическую цель, теорию и предписания.
Усердие, с которым Сократ внушал самоанализ – влияние его бесед на других. – Наставнические и положительные наставления Сократа в основном изложены Ксенофонтом. – Это не было особенностью Сократа – его мощный метод пробуждения аналитических способностей. – Отрицательный и косвенный анализ Сократа вызывал сильную жажду и активные усилия для достижения положительной истины. – Индуктивный процесс исследования и бэконовский дух Сократа.
Сократический метод стремится создать умы, способные самостоятельно формировать выводы – а не насаждать готовые заключения. – Греческая диалектика – её многосторонний подход к предметам – сила отрицательного аргумента. – Предметы, к которым она применялась – человек и общество – по сути требовали такого подхода – причина почему. – Действительное различие и противоречие между Сократом и софистами. – Огромная эффективность Сократа в формировании новых философских умов.
Общая теория Сократа об этике – он сводил добродетель к знанию, или мудрости. – Эта доктрина неполна, так как принимает часть за целое. – Он пришёл к этой общей идее по аналогии со специальными профессиями. – Постоянные отсылки Сократа к практическим обязанностям и деталям. – Производные рассуждения Сократа имели более широкий охват, чем его общая доктрина.
Политические взгляды Сократа. – Долгий период, в течение которого Сократ выполнял свою миссию публичного собеседника. – Обвинение против него, выдвинутое Мелетом, Анитом и Ликоном. – Истинное удивление вызывает то, что это обвинение не было предъявлено раньше. – Неизбежная непопулярность, которую приобрёл Сократ в своей миссии. – Только благодаря общей терпимости афинской демократии и населения ему было позволено продолжать так долго.
Конкретные обстоятельства, приведшие к суду над Сократом. – Личная обида Анита. – Непопулярность Сократа из-за его связи с Критием и Алкивиадом. – Враждебность поэтов и риторов к Сократу. – Обвинительный акт – доводы обвинителей – влияние «Облаков» Аристофана на создание предубеждения против Сократа. – Обвинение в развращении молодёжи частично основывалось на политических мотивах. – Ему вменялось в вину искажение поэтов. – Замечания Ксенофонта по поводу этих обвинений. – Обвинения затрагивают слабое место сократовской этической теории. – Его политическая критика.
Приговор против Сократа отчасти был вызван его собственным согласием. – Небольшое большинство, которым он был осуждён. – Сократ защищался так, словно не желал оправдания. – «Платоновская апология». – Взгляды Сократа на смерть. – Влияние его защиты на судей. – Утверждение Ксенофонта, что Сократ мог бы быть оправдан, если бы пожелал. – Приговор – как он выносился в афинском процессе. – От Сократа требуют предложить альтернативное наказание – его поведение. – Усиление негативных чувств у судей из-за его поведения. – Смертный приговор – твёрдая приверженность Сократа своим убеждениям. – Удовлетворённость Сократа приговором, основанная на осознанном убеждении.
Сократ в тюрьме тридцать дней – он отказывается от возможности побега – его спокойная смерть. – Оригинальность Сократа. – Взгляды на Сократа как на морального проповедника и скептика – первое неполно, второе неверно. – Сократ позитивен и практичен в своей цели; отрицателен только в средствах. – Два пункта, в которых Сократ систематически отрицателен. – Метод Сократа универсален в применении.
Осуждение Сократа – одно из проявлений нетерпимости. – Смягчающие обстоятельства – принцип правоприменения ортодоксии, общепризнанный в древности. – Множество личных врагов, нажитых Сократом. – Его осуждение отчасти спровоцировано им самим. – Афиняне не раскаялись в этом.
Часть II
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.
Глава LXII
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ. – ОЛИГАРХИЯ ЧЕТЫРЁХСОТ В АФИНАХ.
Прошёл около года между катастрофой афинян под Сиракузами и их победой над милетцами при высадке близ Милета (с сентября 413 г. до н. э. по сентябрь 412 г. до н. э.). После первого из этих событий полная гибель Афин казалась неизбежной и невосполнимой как их врагам, так и им самим. Однако их восстановление было настолько поразительным, быстрым и энергичным, что ко времени второго события они уже вели вполне достойную борьбу, хотя и с ослабленными ресурсами и чисто оборонительной тактикой, против врагов, ставших ещё более многочисленными и смелыми, чем прежде. Нет оснований сомневаться, что их внешние дела могли бы и дальше улучшаться, если бы в этот критический момент не возникла угроза из-за предательства части их собственных граждан, вновь поставившего их на грань гибели, от которой их спасла лишь некомпетентность противников.
Это предательство берёт начало от изгнанника Алкивиада. Уже было рассказано, как этот человек, столь же беспринципный, сколь и энергичный, с присущим ему рвением перешёл на службу Спарте и указал ей наилучшие способы помощи Сиракузам, нанесения прямого ущерба Афинам и, наконец, провоцирования восстания среди их ионийских союзников. Именно благодаря его смелости и личным связям в Ионии были подняты восстания Хиоса и Милета.
Однако за несколько месяцев он сильно потерял доверие спартанцев. Восстание азиатских владений Афин произошло не так легко и быстро, как он предсказывал; Халкидей, спартанский командир, с которым он действовал, был разбит и убит под Милетом; эфор Эндий, бывший его главным покровителем, оставался в должности лишь год и сменился другими эфорами как раз в конце сентября или начале октября, когда афиняне одержали вторую победу под Милетом и готовились блокировать город; а его личный враг, царь Агис, по-прежнему преследовал его. Более того, в характере этого незаурядного человека была такая эгоистичность, тщеславие и вероломство, что никто не мог быть уверен в его преданности. И как только случалась неудача, его энергия и способности, редко ему изменявшие, лишь усиливали подозрения, что он предал своих союзников.
Так, после поражения под Милетом царь Агис сумел дискредитировать Алкивиада как предателя Спарты, и новые эфоры немедленно отправили приказ стратегу Астиоху казнить его. Теперь Алкивиад на собственном опыте узнал разницу между спартанскими и афинскими порядками. Хотя его врагов в Афинах было много, и они были крайне озлоблены, имея к тому же преимущество (столь важное в политической борьбе) – возможность обвинить его в нечестии, – всё же самое большее, чего они добились, было требование вернуть его для суда перед дикастерием. В Спарте же, без каких-либо конкретных обвинений и без суда, его враги добились приказа о его казни.
Однако Алкивиад вовремя узнал о приказе и успел бежать к Тиссаферну. Вероятно, его предупредил сам Астиох, понимавший, что столь чудовищный поступок оттолкнёт хиосцев и милетцев, но не предвидевший всего вреда, который нанесёт его дезертирство Спарте. Благодаря своей гибкости, позволявшей ему мгновенно осваивать новые роли, Алкивиад вскоре сумел войти в доверие сатрапа. Теперь он вёл игру ни спартанскую, ни афинскую, а персидскую и антигреческую – игру в двойную игру, к которой Тиссаферн и сам был склонен, но для которой требовалось посредничество ловкого греческого переговорщика. Алкивиад убеждал, что интересы Великого царя не в том, чтобы оказывать столь существенную помощь одной из воюющих сторон, чтобы она могла разгромить другую: ему не следовало ни направлять финикийский флот на помощь лакедемонянам, ни выплачивать столь щедрое жалование, которое позволило бы им бесконечно нанимать новые греческие войска. Напротив, следовало поддерживать и затягивать войну, чтобы каждая сторона истощала и разоряла другую, а он сам возвышался на их руинах: сначала сокрушить афинскую империю руками пелопоннесцев, а затем изгнать и самих пелопоннесцев, что не составило бы труда, если бы они были ослаблены затяжной войной.
В этом совете Алкивиад выступал как персидский советник, предлагая политику, вполне соответствующую интересам двора в Сузах. Однако он редко давал советы без расчёта на собственную выгоду, честолюбие или личные счёты. Отвергнутый спартанцами, он теперь был вынужден добиваться возвращения на родину. Для этого нужно было не только уберечь её от полного краха, но и предстать перед афинянами как человек, способный, будучи восстановленным в правах, переориентировать помощь Тиссаферна со Спарты на Афины. Поэтому он далее внушал сатрапу, что хотя в его интересах не допускать соединения сухопутной и морской мощи в одних руках – будь то спартанских или афинских, – тем не менее, договориться с имперскими притязаниями Афин будет проще, чем со Спартой. Афины, утверждал он, не стремились и не заявляли о других целях, кроме подчинения своих морских союзников, в обмен на что они охотно оставят всех малоазийских греков в руках Великого царя; тогда как Спарта, отрекаясь от всяких имперских амбиций и лицемерно провозглашая всеобщее освобождение каждого греческого города, не могла без явного противоречия лишить этого права малоазийских греков. Этот взгляд, казалось, подтверждался возражениями, которые Ферамен и многие пелопоннесские командиры выдвигали против первого соглашения, заключённого Халкидеем и Алкивиадом с Тиссаферном, а затем – возражениями Лиха даже против второго, изменённого соглашения Ферамена, сопровождавшимися гневным протестом против идеи передачи Великому царю всех земель, когда-либо принадлежавших его предшественникам.
Все эти доводы, с помощью которых Алкивиад пытался внушить сатрапу предпочтение к Афинам, были либо бесполезны, либо основаны на ложных предпосылках. Ведь, с одной стороны, даже Лихас не отказывался от выдачи малоазийских греков Персии; с другой – афинская империя, пока она существовала, представляла для Персии куда большую угрозу, чем любые усилия Спарты под лицемерным предлогом всеобщего освобождения греческих городов. Тиссаферн вовсе не поддался этим доводам, хотя и ощутил силу негативных рекомендаций Алкивиада – не делать для пелопоннесцев больше, чем необходимо для поддержания войны, не обеспечивая им ни быстрой, ни решительной победы. Вернее, эта двойная игра была столь созвучна его восточному уму, что Алкивиад даже не был нужен для её одобрения. Истинная польза афинского изгнанника заключалась в помощи сатрапу в её осуществлении и в предоставлении правдоподобных предлогов и оправданий вместо реальных поставок людей и денег.
Поселившись вместе с Тиссаферном в Магнесии – том самом месте, где около пятидесяти лет назад жил другой афинский изгнанник, столь же беспринципный, но более способный, Фемистокл, – Алкивиад стал посредником в его переговорах с греками и казался полностью в курсе его планов. Эту видимость он использовал, чтобы лживо убедить афинян на Самосе, будто может направить персидские богатства на помощь Афинам.
Первая выплата Тиссаферна пелопоннесцам в Милете после захвата Иасоса и восставшего Аморгоса составила одну драхму на человека. Однако было объявлено, что в дальнейшем она сократится вдвое, и Алкивиад взялся объяснить это сокращение. Афиняне, утверждал он, платили не более половины драхмы не потому, что не могли позволить больше, а потому, что их долгий опыт морских дел показал: большее жалование портит дисциплину моряков, ведя к излишествам и распущенности, а также к слишком частым отпускам в уверенности, что высокая плата заставит их вернуться по требованию. Поскольку он вряд ли ожидал, что такие уловки – особенно в момент, когда Афины были настолько бедны, что не могли платить даже полдрахмы – кого-то убедят, он уговорил Тиссаферна подкрепить их эффект индивидуальными взятками стратегам и триерархам. Этот аргумент оказался действенным, и все, кроме сиракузца Гермократа, перестали жаловаться. Что касается других греческих городов, просивших денежной помощи, особенно Хиоса, Алкивиад высказывался менее сдержанно. До сих пор, говорил он, они были вынуждены платить Афинам, и теперь, избавившись от этих выплат, должны быть готовы взять на себя равные или даже большие расходы на собственную защиту. Более того, добавлял он, это было бы чистым бесстыдством со стороны хиосцев, богатейших людей Греции, если бы они, требуя иностранных войск для своей защиты, одновременно требовали, чтобы другие оплачивали их содержание. В то же время он намекал – чтобы сохранить надежды на будущее – что Тиссаферн пока ведёт войну за свой счёт, но если впоследствии поступят средства из Суз, полная оплата будет возобновлена, возможно, с дополнительной помощью греческим городам в иных формах. К этому обещанию добавлялось заверение, что финикийский флот уже снаряжается и вскоре придёт к ним на помощь, обеспечив превосходство, делающее сопротивление безнадёжным. Это заверение было не только лживым, но и вредным, поскольку использовалось для отговора от немедленных действий и парализации флота в моменты его наибольшей боеспособности. Даже урезанное жалование выплачивалось так нерегулярно, а пелопоннесские силы содержались в такой строгости, что двуличие сатрапа стало очевидным для всех и поддерживалось лишь подкупом офицеров.
Пока Алкивиад, как доверенное лицо и посредник Тиссаферна, проводил эту антипелопоннесскую политику осенью и зимой 412—411 гг. до н. э. – отчасти во время стоянки пелопоннесского флота в Милете, отчасти после его перехода в Книд и на Родос – он одновременно вступил в переписку с афинскими командирами на Самосе. Его разрыв с пелопоннесцами, как и его номинальное положение на службе у Тиссаферна, были хорошо известны среди афинского войска. Его план заключался в том, чтобы добиться восстановления в правах и возвращения власти в родном городе, представив себя как человека, способного привлечь на сторону Афин помощь и союз Персии благодаря своему влиянию на сатрапа.
Однако его враждебность к демократии была настолько общеизвестна, что он отчаялся добиться возвращения, если только оно не будет связано с олигархическим переворотом. Более того, это не только удовлетворяло его жажду мести за прошлое, но и соответствовало его честолюбивым планам на будущее.
Поэтому он отправил тайное послание командирам и триерархам на Самосе (многие из которых, несомненно, были его личными друзьями), передавая привет «лучшим людям» в войске – такова была одна из расхожих фраз, по которой олигархи узнавали друг друга. Он дал понять, что страстно желает вернуться к ним как гражданин, приведя с собой Тиссаферна в качестве союзника. Но он соглашался на это только при условии установления олигархического правления, отказываясь когда-либо вновь ступить на землю ненавистной демократии, изгнавшей его.
Так возник первый зародень временного бедствия, едва не погубившего Афины, – правления Четырехсот. Инициатива исходила от того самого изгнанника, который уже нанес своей родине тяжелый удар, отправив Гилиппа в Сиракузы и лакедемонский гарнизон в Декелею. До этого момента никто на Самосе и не помышлял о перевороте, но как только идея была высказана, триерархи и богачи в войске ухватились за нее с жадностью.
Свергнуть демократию ради собственной выгоды и получить в награду персидские сокровища для продолжения войны против пелопоннесцев – это было везение, превосходившее их самые смелые надежды. В условиях истощения государственной казны Афин и потери дани с подчиненных городов, основное бремя военных расходов теперь ложилось на частных лиц, особенно на богатых. Теперь же они видели возможность избавиться от этого бремени и увеличить шансы на победу.
Окрыленные столь заманчивыми перспективами, делегация отправилась с Самоса на материк для личной встречи с Алкивиадом. Тот вновь заверил их, что приведет не только Тиссаферна, но и самого Великого царя в активный союз с Афинами – при условии свержения демократии, которой, как он утверждал, царь не мог доверять. Разумеется, он не забыл упомянуть и другую сторону альтернативы: в случае отказа персидская помощь будет целиком отдана пелопоннесцам, и тогда Афинам не останется никакой надежды на спасение.
Когда делегация вернулась с этими новыми заверениями, олигархи на Самосе собрались в еще большем числе и с удвоенным рвением, чтобы обсудить меры по свержению демократии. Они даже осмелились открыто говорить об этом проекте среди основной массы войска, которая восприняла его с отвращением, но была вынуждена молчать, услышав, что персидская казна откроется для них только при условии отказа от демократии.
Острая необходимость в иностранных деньгах для войны и угроза гибели, если персидские сокровища достанутся врагу, заставили даже самых преданных демократии афинян задуматься. Однако заговорщики-олигархи понимали, что настроение войска против них, что в лучшем случае они могут рассчитывать на неохотное согласие, и что переворот придется осуществлять своими силами.
Они организовали политический союз (гетерию) для обсуждения дальнейших действий. Было решено отправить в Афины делегацию во главе с Писандром, чтобы сообщить о новых перспективах, активизировать олигархические клубы (гетерии) для насильственного свержения демократии, а также установить олигархические режимы во всех оставшихся подчиненных Афинам городах. Они полагали, что это удержит их в повиновении, а возможно, даже вернет некоторые уже отпавшие города, как только Афины избавятся от демократии и перейдут под власть «лучших и добродетельных граждан».
До сих пор предлагаемая сделка выглядела так: свержение демократии и возвращение Алкивиада в обмен на активную поддержку и золото Персии. Но какие гарантии были, что эта сделка будет исполнена? Единственной гарантией было слово Алкивиада – ненадежное даже тогда, когда он обещал то, что было в его власти, как показал его поступок с лакедемонскими послами в Афинах.
На этот раз он ручался за нечто совершенно невероятное. Какой разумный мотив мог заставить Великого царя строить свою внешнюю политику в интересах Алкивиада? Почему он должен был желать замены демократии на олигархию в Афинах? Эти вопросы заговорщики даже не ставили, предпочитая их заглушить. Предложение Алкивиада идеально совпадало с их политическими интересами и амбициями.
Лишь один человек, насколько известно, открыто усомнился в этом – Фриних, один из стратегов флота, человек проницательный, но лично враждебный Алкивиаду. Хотя позже он стал одним из организаторов олигархического движения, в тот момент он выступал против него.
Алкивиад, утверждал Фриних, не привержен ни олигархии, ни демократии; на него нельзя положиться. Его цель – использовать заговор для собственного возвращения, что внесет раздор в войско. Что касается персидского царя, то глупо ожидать, что он станет помогать афинянам, своим старым врагам, когда у него уже есть союзники-пелопоннесцы.
Подчиненные города, продолжал Фриних, не обрадуются олигархии. Они стремятся к автономии, независимо от формы правления. Они знают, что афинские олигархи – те самые «добродетельные мужи» – были главными советниками народа в его несправедливых действиях. При олигархии их ждут казни без суда, тогда как демократия хотя бы давала возможность защиты.
Но его протест, как показали дальнейшие события, остался гласом вопиющего в пустыне. Олигархи решили отправить Писандра в Афины, чтобы завершить переворот и добиться возвращения Алкивиада, представив народу нового союзника – Тиссаферна.
Фриних хорошо знал, какие последствия ожидают его лично, если этот замысел будет осуществлен, как он и предвидел, – месть его врага Алкивиада за недавнее противодействие. Убежденный, что Алкивиад погубит его, он решил сам заранее уничтожить Алкивиада, даже ценой предательского сообщения лакедемонскому адмиралу Астиоху в Милете. Он отправил ему тайное донесение о заговорах, которые афинский изгнанник вел на Самосе во вред пелопоннесцам, сопроводив его неловкими извинениями за принесение интересов родины в жертву необходимости защититься от личного врага.
Но Фриних плохо знал истинный характер спартанского командующего и его связи с Тиссаферном и Алкивиадом. Последний теперь находился в Магнесии под защитой сатрапа и был вне досягаемости лакедемонян. Более того, Астиох, предавший свой долг ради золота Тиссаферна, отправился туда, чтобы показать письмо Фриниха именно тому, кого оно должно было изобличить. Алкивиад немедленно сообщил генералам и офицерам на Самосе о шаге, предпринятом Фринихом, и потребовал его казни.
Жизнь Фриниха висела на волоске, и, вероятно, была сохранена лишь благодаря глубоко укорененному в афинском характере уважению к судебным формальностям. В крайней опасности он прибег к еще более хитроумной уловке, чтобы спасти себя. Он отправил Астиоху второе письмо, жалуясь на нарушение доверия в отношении первого, но в то же время намекая, что теперь готов предать лакедемонцам лагерь и флот на Самосе. Он пригласил Астиоха напасть на еще не укрепленное место, подробно объяснив, как лучше провести атаку, и заключил, что такие и любые другие средства защиты должны быть прощены человеку, чья жизнь находится под угрозой из-за личного врага.
Предвидя, что Астиох предаст и это письмо, как предал первое, Фриних выждал время, а затем сообщил лагерю о намерении врага атаковать, якобы получив эти сведения из частных источников. Он настаивал на немедленных мерах предосторожности и, как генерал, лично руководил работами по укреплению, которые вскоре были завершены. Вскоре прибыло письмо от Алкивиада, извещавшее армию, что Фриних их предал, и пелопоннесцы готовятся к нападению. Но поскольку меры предосторожности, принятые по приказу самого Фриниха, уже были выполнены, это письмо сочли лишь уловкой Алкивиада, который, зная о планах пелопоннесцев, хотел обвинить своего врага в предательской переписке. Впечатление от второго письма стерло подозрения, вызванные первым, и Фриних был оправдан по обоим обвинениям.