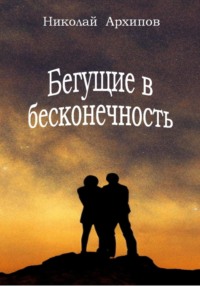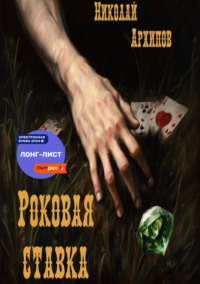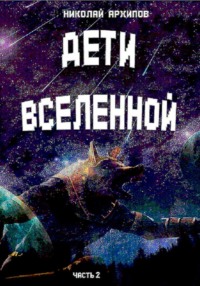Полная версия
Путь в бессмертие
Иван довольно улыбнулся и выбежал из конторы. Жизнь с этого дня для него, да и не только для него, для всех советских людей разделилась на "до войны" и после. Первые повестки не заставили себя долго ждать. За считаные дни забрали почти половину мужиков и парней. В редком доме не собирали на фронт родных. Мужей, сыновей, братьев. Гармонь в селе играла не переставая. Пили вино, плясали, плакали, пели песни. Гуляли наотмашь. Как всегда. По-другому просто не умели. Село пустело. У Селиверстовых первым проводили отца, потом подошла очередь и двух старших братьев. Иван остался вдвоём с сестрёнкой и младшим братом.
– Смотри, Ваня, на тебя оставляю младших, – сказал на прощание отец. – Знаю, тебе тоже скоро уходить, но пока присматривай за ними. Ты парень надёжный, я верю в тебя. Не грусти, ещё свидимся.
Работы в колхозе, как и предрекал председатель, заметно прибавилось. Рук стало катастрофически не хватать, так что Иван с утра до тёмной ноченьки пропадал в поле. На помощь родному колхозу пришли дети и старики. Детишек Иван жалел, ставил на лёгкую работу, в основном сено убирать да прополкой заниматься. Гулять по ночам стало не то чтобы некогда, просто на посиделки сил уже не хватало, но Иван всё же бегал на встречи с Лидой. Молодость брала своё. Целовались до зари. Все скамейки в селе обсидели до блеска, все дорожки исходили до камней. Как-то после особо тяжёлого дня Иван обнял Лиду и, как ему показалось, лишь на секундочку закрыл глаза. Проснулся он уже под утро, когда петухи по всему селу наперебой горланить начали. Лида на коленях держала лохматую голову Вани и задумчиво перебирала его волосы, улыбаясь своим невесёлым думам.
– Это как это, – вскочив, удивился Иван. – Только что ночь была. Я что, проспал?
Он растерянно уставился на Лиду и как-то по-детски захлопал глазами. Лида засмеялась:
– Я нарочно не стала тебя будить, а то скоро того и гляди на ходу спать будешь, как Васькин мерин.
– Нашла с кем сравнивать, – обиделся Иван, смачно зевнул и поёжился от утренней прохлады. – Ты что, так и просидела всю ночь?
– Так и просидела. Тебя вот-вот на войну заберут, нескоро, видать, свидимся. Так хоть сейчас насидеться с тобой.
– Лидуня, – заулыбался Иван. – Да я тебя, знаешь, как люблю? Я тебя и там всегда помнить буду. Ты не грусти. Гадов мы быстренько перебьём. Вот увидишь. А, когда вернусь, свадьбу сыграем. Ты ведь пойдёшь за меня замуж?
Иван обнял Лиду и, не дожидаясь ответа, крепко поцеловал её. Лида снова засмеялась:
– Вот оглашенный, чуть не задушил. Пойду, только успокойся. Куда же я денусь от такого настырного.
– Эх, и заживём мы с тобой, Лидуня. Душа в душу. Я тебя на руках носить буду. Ей богу, всю жизнь любить буду. Не веришь?
Иван вскочил со скамейки, подхватил Лиду на руки и закружился с ней на мокрой от росы траве. Лида обхватила его за крепкую шею и, не переставая смеяться, поцеловала Ивана.
А через час его звонкий голос снова был слышен во всех уголках села:
– Лизавета, Праксея, с граблями в поле, сено шевелить. Тётка Василиса, бери робят и на прополку…
Так прошли дни первого лета войны. Наступила осень со своими нудными, холодными дождями. Серые тучи, казалось, как упали на землю да так и остались там валяться в образе промозглого до костей тумана. Дороги размыло так, что телеги застревали намертво. Бедные лошади рвали жилы, чтобы стронуть их с места, но жирная грязь крепко держала колёса, и порой казалось, что никакая сила не сможет вынуть их из трясины. Трактора намяли клеи по оси, и местами, когда трактор ехал, была видна только кабина да выхлопная труба, чадящая копотью надрывно тарахтящего мотора. По утрам зачастую бывали небольшие заморозки, оставляющие на пожухлой траве белый ненадёжный налёт. Лужи покрывались тонким слоем льда и таяли только к обеду. В небе уже не летали стройными косяками журавли, не носились черными стаями туда-сюда бестолковые грачи. Все они уже давным-давно долетели до тёплых мест и вовсю обживали южные просторы, свои зимние курорты.
Работы в поле давно уже закончились, зерно засыпано в склады, часть увезена в район. Несмотря на засушливый год, кормов заготовили в достатке. Технику поставили на ремонт и зимнее хранение. В углу мастерской сиротливо стояло несколько машин. Их хозяева сейчас вместо рычагов держали в заскорузлых от работы руках оружие, месили кирзовыми сапогами бесконечные фронтовые дороги. Редкие письма-треугольники приносили весточки от солдат, вселяя надежду родным. Стали появляться на селе и другие весточки, страшные весточки-похоронки. Пройдёт, бывало, почтальон по улице, а вслед ему слышатся либо радостные восклицания, либо истошные крики осиротевших жён и детей. Война витала над страной не щадя никого.
Дождался своей очереди отправляться на фронт и Иван Селиверстов. В этот день он безвылазно сидел в конторе, писал наряды. Иван мельком видел, как мимо окон пробежал посыльный из сельсовета, и тут же услышал, как хлопнула входная дверь. Посыльный вошёл в контору. Все, кто был там, как по команде оторвали взгляды от столов и уставились на курьера. Так обычно приносили повестки на фронт.
– Сколько? – коротко спросил председатель.
Он уже порою не знал, кого наряжать на работы, так резко поубавилось колхозников за последнее время.
– Восемь, Пётр Ефимович, – ответил посыльный и взглянул на Ивана.
Тот каждый день ждал этой минуты, даже в военкомат не раз ходил, но пока всё понапрасну. Иван понял, что вот и настала его очередь встать на защиту своей Родины. Он встал и подошёл к посыльному.
– Держи, Иван, дождался наконец-то.
Иван взял в руки маленький листочек бумажки и пробежал по нему глазами.
– Когда, Ваня? – спросил председатель.
– Пятого ноября. К шести часам велено явиться. Завтра, Пётр Ефимович, – улыбнувшись, ответил Иван.
Председатель вышел из-за стола и подошёл к нему.
– Ну что же, бригадир, считай, что дела я у тебя принял, – сказал Пётр Ефимович, обнимая Ивана. – Работал ты отлично, даже лучше, с огоньком. Уверен, что и там ты достойно будешь громить врага. И учти, Ваня, я не прощаюсь с тобой. После победы подучишься и меня, старика, заменишь. Это я тебе твёрдо обещаю.
Вечером Мария Игнатьевна собирала Ванин чемоданчик и тайком утирала слёзы, как в избу вбежала Лида и с порога кинулась Ване на шею.
– Ваня, милый, родной… – запричитала девушка.
– Ну, ну, ты чего, Лида, – Иван даже как-то растерялся. – Да вернусь я. Обещаю, что вернусь. Лидуся, мы же с тобой обо всём уже переговорили.
– Переговорили, а мне всё не верилось. Ваня.
– Тётя Маруся, да скажи ты ей, – не выдержал Иван.
Тётка только рукой махнула и вытерла глаза уголком платка.
Провожали ребят всем селом. Как всегда, пиликала гармошка, кто-то даже пытался что-то спеть, но быстро затих. Пётр Ефимович сказал призывникам небольшую напутственную речь, и подводы с будущими солдатами тронулись в путь. Лида поехала с Иваном в город. Иван поцеловал на прощание Марию Игнатьевну, сестрёнку с братишкой и зашагал рядом с телегой.
Глава 4.
Всё это Иван вспомнил, сидя на полуразрушенном укрытии и глядя на сожжённые и втоптанные в грязь колосья пшеницы. Он не понаслышке знал настоящую цену крестьянскому труду, цену хлебу. Накануне, строя укрепления, Иван дивился воронежскому чернозёму, ходил по полю, рассматривал налитые спелым зерном колосья, а сейчас эта благодатная земля была вся испахана гусеницами и усеяна глубокими воронками от снарядов. На поле Иван старался и вовсе не смотреть. Всё это благолепие странным образом сочеталось с непроходимыми лесами, покрытыми топями и болотами, глубокими оврагами и меловыми высотами, на которых и окоп-то вырыть было сущим наказанием. Совсем рядом катил свои воды Дон, который всего лишь три дня назад бронебойщик форсировал со своим вторым номером Сашкой Быстровым. Они с ходу при поддержке артиллерии вскарабкались на кручу и в один момент выбили мадьяр из окопов, захватили плацдарм. Оборона противника была обустроена добротно, даже где-то с шиком. На много километров протягивалась извилистая линия траншей и ходов сообщения, вырытых хортистами. По сравнению с левобережными укреплениями двадцать пятой стрелковой дивизии, в которой воевал Иван Селивёрстов, это были настоящие хоромы. Там, за рекой, просто невозможно было выкопать нормальный окоп. В один миг всё засыпало зыбучим песком, сколько не старайся. Маета одна, а не оборона.
– Молодец, Селивёрстов, не растерялся, – рядом сел комбат Миронов в порванной и испачканной в крови гимнастёрке. Рука майора была от плеча до кисти неумело замотана грязным бинтом. Комбат поморщился и бережно положил руку на колени. – Я тебя к награде представлю, как только из госпиталя выйду.
Иван посмотрел на командира и молча покачал головой.
– Знаю, Ваня, – тихо сказал комбат. – Мне тоже ребят жалко, но сам понимаешь, семьдесят танков да ещё с пехотой сдержать не так-то просто. Вообще чудо, что мы с тобой живые сидим.
– В чудеса я с детства не верю, Семён Макарович, – хрипло ответил Иван. – Если бы не подкрепление, где бы мы сейчас были?
– Тоже верно, – согласился Миронов. – Выручили ребятки вовремя.
– Вовремя? – Иван в упор посмотрел на командира. – Когда нас уже всех положили.
– Не кипятись, боец, – голос комбата посуровел. – Ни ты, ни я не знаем, почему так поздно пришло подкрепление. Так что не нам с тобой делать выводы. Наше дело выполнять приказы, а не обсуждать их. Не первый год воюешь, пора бы и привыкнуть.
– Трудно к такому привыкать, товарищ комбат, – Иван кивнул на оставшихся бойцов. – А ещё труднее объяснить.
К вечеру бои затихли и остатки батальона перешли ближе к деревне Сторожевое. Из роты бронебойщиков, где служил Селивёрстов, в живых остался он один. Иван нёс на плече своё искалеченное ружьё и даже не заметил, что сзади него шёл тот самый солдат, что помог ему в бою с танкистами. Остатки батальона шли вперемешку с пополнением. Впереди маячило серое пятно чьей-то гимнастёрки. Иван бездумно шагал за ней, ни о чём не думая, мечтая просто умыться и хоть на часок прилечь поспать. Бои последних трёх дней не давали ни минуты передышки. Настолько плотными были атаки проклятых мадьяр, пытающихся сбросить дивизию назад за Днепр. Накануне части двадцать четвёртого танкового корпуса овладели лесом севернее села Селявное. Оценивая первые дни наступления советских войск, начальник немецкого Генерального штаба Сухопутных войск Гальдер в своём дневнике раздражённо записал: "Венгры снова пропускают русских через Дон!"
– Слышь, браток, может, помочь? – неожиданно раздался голос сзади. – Такую штуковину нелегко одному тащить.
Иван остановился и удивлёнными, непонимающими глазами осмотрел незнакомого солдата.
– Да ты не сомневайся, я только помогу… – начал было незнакомец, но внезапно осёкся.
Он понял, что Иван не слышит его, вернее не понимает слов.
– Ты извини, браток.
Иван мотнул головой, словно после долгого сна, и улыбнулся. Устало, по-доброму. – Держи, горняк, – Иван протянул шахтёру ружьё, и тот закинул приклад себе на плечо.
Идти стало гораздо легче, да и на душе как-то просветлело. Иван огляделся. Они шагали уже на краю деревни. Крайняя изба была почти вся разрушена, только печная труба одиноко торчала посреди развалин да сарай, крытый соломой, стоял в огороде. Иван не знал, что не так давно эта густозаселённая деревня пережила трагедию, оставившую глубокий кровавый след в её истории.
Не видел он и того, как совсем недавно почти безоружные советские солдаты практически бежали на другую сторону Дона, оставляя мирное население на расправу второй венгерской армии. Армии, сплошь состоящей из мародёров и садистов. Вслед убегающему в рваных пропотевших гимнастёрках войску неслись проклятия и ругательства.
– Вы поглядите-ка, – кричала во весь голос и на всю улицу бабка Полштриха, – бегут неумехи наши, аж в ж . . ы пятки у них втыкаются. Германцу сдают нас, черти заполошные!
Старики тоже высказывались, но уже более конкретно. Им было обидно и страшно понимать, что их ждёт дальше. По непонятной причине эвакуировали из Сторожевого только руководящую верхушку. Всех остальных просто бросили на произвол судьбы. А в это время в село входила оснащённая техникой и крепко вооружённая армия агрессоров. Так было.
Сейчас наших солдат принимали все, кто уцелел, как истинных освободителей. Они уже не были теми жалкими и беспомощными вояками, показывающими спину неприятелю. Нет. В деревню вошла армия-победитель. Злая, беспощадная к врагу и не собирающаяся больше оставлять ни пяди нашей земли, а гнать ворога прочь в своё логово и там его растоптать так, чтобы и памяти о нём не осталось.
– Тебя как звать-то, шахтёр? – спросил Иван.
– А ты откуда знаешь, что я шахтёр? – удивился солдат.
– А кто на гора ещё выдаёт, как не шахтёры?
– Точно. Это у меня по привычке. Фёдором меня кличут. Я с Донецка. Слыхал про такой?
– Слыхал, слыхал. Кто же про вас не слыхал. Стахановцы.
– Снова угадал. Только я с другой шахты. Лексей в Луганске робил, на Ирминском руднике. Так-то, браток, – проговорил Фёдор. – Я его самого не видал, не довелось, а про рекорд слышал. Наши пробовали перекрыть его норму, да зря только пупы рвали. Так и плюнули. Четырнадцать норм за смену, это тебе, Ваня, не шутки. Однако, кажись, пришли.
Иван посмотрел на село и от нестерпимой злости скрипнул зубами. От села остались одни руины. Не было и пяди земли, где не упал бы снаряд, не пролилась чья-то кровь. Иван с Фёдором положили ружьё на траву. Уже заметно вечерело. Солнце зависло над лесом прямо за Доном, и со стороны полей потянул прохладный ветерок. Так или примерно так закончился ещё один день битвы Воронежского фронта.
Изрядно поредевший батальон переформировали без задержки на следующий же день тем самым пополнением, что помогло отбросить противника с высотки. Комбат отправился в госпиталь, а вместо него прибыл пожилой майор Сенягин, а с ним и командир роты бронебойщиков лейтенант Синельников. Лейтенант, сразу было видно, бывалый, прожжённый в боях до черноты. На вид ему было лет около тридцати. Синельников по-хозяйски проинспектировал подразделение, быстренько назначил командиров, выбил неизвестно где оружие, боеприпасы и дал время на отдых до вечера.
Иван, сам того не ожидая, тоже оказался в командирах. Небольшим командиром, всего лишь отделения бронебойщиков, но тем не менее командиром.
– Наслышан про тебя, Селивёрстов, наслышан. Три танка с ходу положил, – подойдя к Ивану, сказал лейтенант. – Вот что, солдат. Слушай приказ. Назначаю тебя командиром отделения. Звание сержанта считай что уже получил. Приказ на тебя ещё не пришёл, но это не меняет сути дела. Я на тебя очень рассчитываю. Ты человек в бронебойном деле опытный, не подведёшь. Думаю, что скоро фашисты снова попрут на нас. Позиция тут уж больно важная, а это значит что?
– Снова танки, товарищ лейтенант, – чётко ответил Иван.
– Верно. Правильно мыслишь, сержант. Эта война всё больше становится войной машин. Конники уже не в чести. Да и что сделаешь против брони голой саблей? Опять правильно. Ничего. Готовь, Селивёрстов, отделение. Чтобы всё в аккурате было. Я проверю.
Иван не заставил себя долго ждать. По примеру лейтенанта он провёл полный осмотр своего войска, которое насчитывало пять человек вместе с ним. Более зорких из них назначил наводчиками, а Фёдора выбрал своим заместителем.
– Слышь, командир, – начищая ружьё, сказал Фёдор. – Неплохо бы на постой где пристроиться. Лучше всего в хате. Ты как мыслишь на этот счёт?
– Неплохо бы, кто же против. Только хаты все до самых полатей забиты. Не мы одни такие шустрые. Да и где ты видел целые хаты? Руины одни, – ответил Иван, оглядывая улицу. – Если только сарай на окраине оккупировать. На него, похоже, пока никто не позарился.
– Да хоть сарай, – согласился Фёдор. – Правда, хлопцы?
– По мне всё сойдёт, – отозвался круглый, как шарик, наводчик Дёмкин Мирон.
В отделении он был самый молодой, восемнадцати лет отроду. Ивана при знакомстве больше всего поразили глаза Мирона. Огромные, никак не гармонирующие с безусым лицом, буквально лишённым подбородка. Он очень напоминал лемура. Иван видел этого чудного зверька в библиотеке на картинке. Он тогда ещё подумал, что этот зверёк должен видеть всё насквозь. Как потом оказалось, Иван глубоко ошибался. Размер глаз никак не говорил об остроте зрения. Вот и Мирон оказался близоруким, только сказать сразу постеснялся. Он вообще был парень застенчивый до глупости.
В сарай нагрянули всем скопом. С ходу распахнули створку ворот и тут же замерли на пороге. На утоптанном сене сидели пятеро детишек вокруг ветхой старушки и что-то ели из стоящего прямо на земле чугунка. Старшему парнишке на вид было лет семь-восемь, а младшей девочке и вовсе года два. Остальных детей по одинаковой одежонке и короткой стрижке было не различить. Мальчишка или девочка. На скрип ворот все как по команде обернулись к вошедшим солдатам и тоже застыли с набитыми ртами. На чумазых, забавных мордашках ясно читалось по-детски неподдельное любопытство.
– Извиняйте, бабуся, – смущённо проговорил Фёдор. – Мы думали помещение пустое.
Старуха медленно повернулась к солдатам и, близоруко прищурившись, посмотрела на нежданных гостей.
– Заходите, соколики, – совсем не старческим, бодрым голосом сказала она. – Места всем хватит. Вот только поесть у нас небогато. Хату спалили. Благо картошка в погребе осталась. Ей, родимой, и спасаемся.
Иван подошёл к застолью и присел на корточки напротив детишек. В чугунке действительно была картошка в мундире. Он любил такую у тётки поесть, особенно с малосольными огурцами. Детишки смотрели на него без страха, с нескрываемым интересом. Старший малыш сунул маленькую ручонку в чугунок, достал картошину и протянул её Ивану:
– Ешь, дяденька. Вкусно.
У Ивана от жалости ком к горлу подкатил. Он осторожно взял картошину, подержал её в руке и повернулся к отделению:
– А ну, доставай, что у кого припасено. Мирон, Фёдор. Берите котелки и бегом на кухню за пайком.
Все тут же засуетились, стали развязывать вещмешки. На импровизированный стол из брошенной на сено шинели посыпалось съестное. Что у кого было. Кусочки сахара, хлеб, банки тушёнки. Вскоре прибежали Мирон с Фёдором. В котелках, поставленных рядом с чугунком, исходила паром только что сваренная каша. Принесли свежего хлеба. Даже фляжка со спиртом нашлась. От такого богатства у детишек глазёнки разбежались. Фёдор, как самый хозяйственный, всех наделил поровну.
То, что повидали за время оккупации эти детишки, даже представить было трудно. В первые дни мадьяры начали охоту за партизанами. Они вытаскивали из домов всех, кого подозревали, мучили и расстреливали. Около восьмидесяти ни в чём не повинных душ было казнено палачами. В огородах, в оврагах родственники тайно хоронили жертв безумия. Попутно мадьяры грабили население. Отнимали всё, что могли унести, уводили скот, били птицу. Деревню регулярно бомбили советские лётчики, не давая покоя мародёрам. Однажды после такой бомбёжки фашисты выгнали на улицу человек пятьдесят жителей деревни, усадили на колени в круг и вывели в центр мужчину. То, что было дальше, нельзя даже себе представить. Кровь стынет в жилах, мозг отказывается воспринимать изуверства тварей, возомнивших себя сверхчеловеками. Сначала они отрезали несчастному нос и уши, а затем медленно стали срезать с него кожу. Его жена от ужаса стала кричать, но один из палачей приставил к её виску наган, и она замолчала. А казнь тем временем продолжалась. Мадьяр, орудуя ножом, без умолку повторял одно и то же слово: «Партизанен, партизанен». На лице мужчины почти не осталось кожи. Оно было всё сплошь залито кровью, и только белые зубы на лишённом губ лице страшно блестели в предсмертном оскале. Вдоволь насладившись мучениями жертвы, безумец выстрелом в висок поставил кровавую точку в своём злодеянии. За всё это время несчастный не издал ни звука. Это был местный житель, Дмитрий Турищев. Мужчина упал, а мадьяр ногой швырнул обезображенное тело в овраг. И это всё происходило на глазах у детей.
Солдаты и хозяева сидели вместе и ужинали одной семьёй. Воины и дети. Ели и улыбались, весело переглядываясь друг с другом. Иван свою кашу раздал младшим, а девочке сунул в руку кусочек сахара. Она радостно засмеялась и спрятала лакомство в карман пальтишка. Детишки уплетали угощение за обе щёки, дуя на горячую кашу, а старушка смотрела на своих внуков, и из глаз её медленно текли слёзы.
Глава 5.
Почти месяц в районе Сторожевого велись оборонительные бои. Дивизия укрепила свои позиции на правом берегу Дона и не собиралась их уступать ни венграм, ни румынам, ни немцам. Пытались атаковать немецкие и румынские войска. Советские соединения также предпринимали попытки нанести противнику ответные удары. Но вперёд удалось продвинуться далеко не всем. Успех сопутствовал только частям сороковой армии. Шестая, тридцать восьмая и шестидесятая армии не прошли вперёд ни на метр. Их основной задачей было отбивать контратаки противника. Сто сорок первая стрелковая дивизия сороковой армии под мощными ударами фашистов оставила плацдарм в селе Костенки на западном берегу Дона, и лишь одному полку удалось закрепиться в двухстах метрах от западного берега. Сторожевое несколько раз переходило из рук в руки. Венгры как смерти боялись идти в атаку на наши войска и только при поддержке немцев решались ввязываться в открытый бой. Но стоило только пасть первому мадьяру, как весь западный сброд разворачивался и уносил ноги. «Доблестные» королевские дивизии адмирала Миклоша Хорти, надёжного пособника Гитлера, виртуозно могли только грабить да казнить безоружное население. Во время оккупации Сторожевой эти мародёры вместо обещанных Гитлером поместий нашли лишь свои могилы. Сотни могил. Смерть – это то самое, что они получили за свои "заслуги".
В Берлине ещё при разработке летних военных операций командование вермахта уделяло исключительное внимание удержанию оборонительного рубежа по реке Дон. В апреле 1942 года в директиве ОКБ за номером сорок один, разработанной лично Гитлером в качестве общего плана наступательных действий немецких войск на юго-западном направлении в период летней кампании 1942 года, ставилась задача по достижению первых оперативных успехов. Гитлер говорил: "Немедленно начать оборудование позиций на реке Дон. Для занятия позиций на этом растянутом по реке Дон фронте, который будет постоянно увеличиваться по мере развёртывания операций, будут в первую очередь выделяться соединения союзников… Союзные войска должны распределяться по нашим позициям с таким расчётом, чтобы на наиболее северных участках располагались венгры, затем итальянцы, а дальше всего на юго-восток – румыны". Но планам гитлеровцев не суждено было сбыться. Упустив стратегически важный участок, немецкое командование неминуемо должно было вернуть его и отбросить советские войска снова за Дон. Замыслы противника были понятны. Поэтому пятнадцатого августа 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему Брянским фронтом К.К. Рокоссовскому: "1. Ввиду явного неуспеха наступательной операции тридцать восьмой армии и нецелесообразности её дальнейшего продолжения… наступление прекратить и её войскам с пятнадцатого августа перейти к глубокой и прочной обороне, выделив сильные резервы". Семнадцатого августа 1942 года армии Воронежского фронта перешли к обороне.
Накануне наступления немцев лейтенант Синельников обходил окопы, где разместились бойцы его роты. Обходил он, как всегда, не спеша, подолгу останавливаясь и дотошно расспрашивая солдат об их настроении, готовности к бою. Синельников не был новичком на фронте. Он воевал с первых дней и шёл до Дона аж от самой польской границы с того самого памятного дня двадцать второго июля 1941 года. Много пришлось ему исходить дорог, много товарищей похоронить, а вот его самого даже самую малость не задело.
– Заговорённый ты какой то, лейтенант, – говорили ему зачастую. – Ты, случаем, не колдун?
Синельников молчал и только смеялся в ответ, но однажды всё-таки ответил:
– Колдунов у нас в роду отродясь не водилось, а я так по этому поводу думаю. Ежели меня пули не берут, то по всему видать, что мне судьбой отмеряно прожить много лет, пройти весь путь войны и нахлебаться этого дерьма до бровей.
Иван сидел на корточках и писал письмо Лиде, когда рядом остановился командир.
– Домой весточку подаёшь? – спросил Синельников, заглядывая в исписанный аккуратным почерком лист.
Иван от неожиданности выронил из рук карандаш и, увидев командира, вскочил на ноги.
– Так точно, товарищ лейтенант, – козырнув, ответил он.
– К пустой голове руку не прикладывают, сержант. Пора бы тебе это знать, – улыбнулся Синельников. – Матери пишешь?
– Невесте. Мама умерла, когда я ещё совсем пацаном был.
– Извини. А невесте обязательно напиши, да побольше. Им там, поди, несладко приходится. Сам-то я тоже из деревни. Под Тулой моя изба стоит. Туда, в родные места, я свою семью отправил, когда война началась. Жена пишет, что работают все, кто может ходить. Мужиков, почитай, уже полсела погибло. Кто где теперь лежит, – Синельников достал пачку папирос и закурил, с удовольствием пуская дым. – По нашим данным, завтра немцы в наступление пойдут. Так что проверь своих. Чтобы всё было в аккурате. А письмо обязательно допиши.