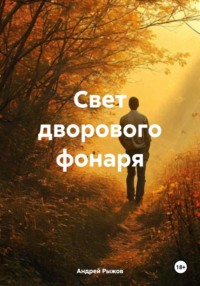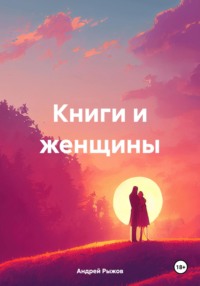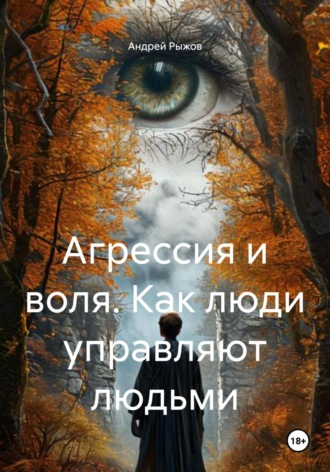
Полная версия
Агрессия и воля. Как люди управляют людьми
Репутация
Репутация АВ, собственно, и есть их миф. Под репутацией можно понимать некоторый комплекс из представлений, мнений, оценок профессиональных и личных качеств, который формируется в течение длительного времени вокруг индивида среди как непосредственно соприкасающихся с ним, пусть даже случайно, так и опосредовано: через рассказы, толки, слухи, сообщения в СМИ и т. д.
Репутация, в первую очередь, складывается из совокупности оценок профессионализма, дополненной мнениями, например, о семейной жизни, об увлечениях и развлечениях. Представления, положенные в её основу, не всегда однозначные, совпадающие в главном, но в большой выборке являют собой некий консенсус в форме определённого, хоть и расплывчатого, но – важно – устойчивого мнения о человеке. Таким образом основное качество репутации – устойчивость к влиянию вновь возникающих фактов, обстоятельств, оценок, а также ко мнению маргинализованной части общества. Именно это качество так влечёт АВ, ибо единожды приложив усилия по её созданию, впоследствии очень долго можно пользоваться её плодами, и лишь экстраординарные события способны нарушить устоявшиеся, «окаменевшие» (и тем удобные для части общества (АН и НН)) оценки.
Репутация может быть положительной и отрицательной, но репутация АВ всегда положительна. Переходные состояния невозможны, ибо они мыслят исключительно в категориях бинарных оппозиций. Чтобы стать такой, какой она должна быть, т. е. положительной, отрицательная репутация АВ, если она вдруг возникла, должна безвозвратно стереться из памяти причастных к её «созданию» и всех, хотя бы единожды соприкоснувшихся с ней, и сформироваться заново: в новом месте, новыми людьми, но с прежними АВ. Поэтому в случае неудачи они тут же проводят своеобразный ребрендинг себя, если пользоваться маркетинговой аналогией: переходят в другую компанию, переезжают на новое место, разводятся, меняют друзей, интересы, сферу деятельности. Причём репутация создаётся АВ не только для самих себя, но и для прочно ассоциированных с их именем товаров и услуг.
Репутация формирует ожидания, ожидания всегда равного самому себе состояния, на которое можно положиться, сняв с себя ответственность. Репутация тем прочней, чем слабее, неувереннее в себе её «потребитель». Например, репутация развитой промышленности и её технической продукции сильнее всего в недостаточно развитых в этом отношении экономиках. Так и в случае АВ: наиболее восприимчивыми к ауре их имиджа являются неволевые НН, отчасти АН, и в меньшей степени НВ.
АВ очень трепетно относятся к своей репутации, тщательно выстраивают её, вычищают, рафинируют, удаляя или скрывая всё порочащее, двойственное, неоднозначное, способное бросить на неё тень. Из их уст часто можно услышать фразу: «Я не хочу рисковать своей репутацией». Заботу о ней они демонстративно преподносят как оправдывающий любые их действия мотив, который вы должны принять безусловно, если не хотите стать их врагом.
Тайна
При всей транслируемой АВ вовне «дружелюбной» открытости и вовлечённости в судьбы других, они предельно скрытны в том, что качается их самих, особенно, в финансово-экономической сфере.
АВ, по их собственным словам, постоянно пребывают в состоянии «делания дел» (под делами они подразумевают любое занятие, даже самое, казалось бы, незначительное: покупку продуктов, уборку, приготовление обеда, поход в больницу и т. д.), но конкретные детали не раскрывают, либо раскрывают частично, с целью поддержания образа «успешного делового человека». На малоинтересное им предложение (равно невыгодное с точки зрения утверждения власти) АВ серьёзным тоном отвечают, что они занимаются сейчас или будут вскоре заниматься «делами» (если вы их не интересуете, то без уточнения какими именно; если интересны, то с приведением полной их номенклатуры) и им некогда. На вопрос о том, как прошли выходные, часть ответа АВ обязательно будет посвящена «делам», причём первая, а уж за ней пойдут, собственно, досуговые мероприятия, где они непременно «очень хорошо провели время, и советуют вам непременно последовать их примеру».
АВ всегда демонстративно запирают ящики, бюро, комоды, кабинеты, комнаты, где находится чувствительная для них информация, даже выходя на пару минут. А если на всём вышеперечисленном нет запоров, то они будут стремиться их установить как можно скорее, а также недоумевать – для компенсации потенциально негативного впечатления, – как другие могут обходиться без них.
Замки, с одной стороны, охраняют личную информацию от происков врагов (любой, кто потенциально способен что-либо подсмотреть, – враг), с другой – создают необходимый АВ образ таинственности. Тайна – составная часть мифа, сознательно формируемого ими вокруг своей персоны. Смысл её созидания в том, что она – своего рода неисчерпаемый сосуд, куда можно помещать как реальное, так и нереальное, и подлинное содержание которого никому (за исключением самых отчаянных, способных вступить в конфликт-противостояние с АВ, т. е. НВ) недоступно, тщательно охраняясь.
Тайна, например, используется АВ для карьерного продвижения и удержания позиций в научной сфере. Они часто становятся значимыми фигурами в какой-нибудь научной организации, обзаведясь громкими титулами и регалиями; за ними тянется шлейф-репутация учёных с «мировым именем; они выступают главными редакторами почти всех научных работ и книг, выпускаемых данным научным учреждением. Их фамилия золотым тиснением блещет на обложках, заметна издалека. Но на самом деле, сколь-либо значимого вклада АВ в приписываемые им научные достижения не делают – этот психотип к научной деятельности в чистом виде не склонен, поскольку наука требует значительных затрат ресурсов при минимальной отдаче через много лет (если она вообще будет), а результат в виде обретения властного ресурса им нужен здесь и сейчас. Совсем без науки подобный образ поддерживать, конечно, затруднительно, поэтому они рекрутируют научных «рабов» (прежде всего – НН, но также и НВ), либо просто присваивают чужие достижения. Но об истинной картине их «успеха» знают лишь единицы, но и те боятся раскрыть эту тайну.
Скрытность
Запоры, замки скрывают и закрывают. В арсенале АВ всегда есть ключ как символ власти над тайной, явленный для всеобщего обозрения и почитания.
Скрытность есть главный инструмент создания тайны, в поволоке которой столь уютно чувствуют себя АВ. Но они далеко не всегда испытывают необходимость что-то действительно прятать под условным замком – скорее, демонстрировать свою власть, регулируя доступ. Сам технический процесс закрытия доставляет им садистское удовольствие – видеть, как адресат этого своеобразного сообщения переживает от невозможности проникнуть в их тайны, которые, они уверенны, его интересуют так же, как они интересовали бы их. АВ превращают его в ритуал, в спектакль, у которого обязательно должна быть аудитория, завистливо, уважительно созерцающая их возможности.
АВ не опасаются проникновения в свой внутренний, во всех смыслах, мир, как НВ, его раскрытия, обнажения и утраты тем самым его уникальности. Но им необходимо лишить пищи критиков, обличителей, обезопасить свой миф от внезапных вторжений.
АВ обожают роль ключников – стремятся повесить на свою связку как можно больше ключей и никому её не доверять и тем более, отдавать. Они узурпируют право управлять доступами ко всем мало-мальски секретным (в том числе, порождая саму секретность) комнатам, хранилищам, складам, сейфам, ящикам, серверам, папкам, файлам, входным дверям, вратам и проч.
Важные для них вопросы АВ обсуждают исключительно за закрытыми дверьми вопреки транслируемому ими образу транспарентности и открытости. Сам процесс закрытия двери должен указывать не допущенным за неё на их текущий статус – низших, неугодных, незаслуженных, «изгнанных из рая». При этом сами АВ не терпят, когда их куда-то не пускают и всеми способами пытаются узнать, что там, без их ведома, происходит.
Сокрытие невыгодного
АВ очень трепетно относятся к тому, какой репутацией обладает то, с чем они соприкасаются. Они стараются избегать встреч с малейшим образом «запятнавшим» себя в глазах общества человеком. Под пятнами в данном контексте имеется ввиду несоответствие общепринятым стереотипам «правильного» поведения той группы, где АВ утверждают свою власть.
Как и во многих своих проявлениях, в сокрытии нежелательного, опорочивающего их репутацию АВ алгоритмически последовательны и непреклонны. Они не сделают исключений из жалости (которой они ни к кому не испытывают), не примут во внимание логичные аргументы в оправдание, солгут, оболгут и т. д. Например, АВ не будут упоминать о встрече с вами, если вы хоть раз противопоставили себя «так принято», т. е. в чём-то пошли против большинства (если только это не то большинство, которое также не приняло и АВ). Они будут умалчивать и о своих родственниках с подмоченной каким-либо образом (вредными привычками, бунтарством, бедностью) репутацией, потенциально способных сколько-нибудь снизить положительный «блеск» их мифа-образа, широко тиражируемого в массы. Вообще, прежде чем представить публике свою родню, АВ их в прямом и переносном смысле чистят, красят, убирают им заусенцы, ровняют поверхности, исправляют прикус, а то и вовсе переделывают.
На всеобщее обозрение АВ всегда выставляют праздничный торт, а не фотографии кондитерской с крысами, мухами и грязным полом. Внутри их дома может царить «тёмное царство» самодурства (самодурства именно АВ), но мало кто узнает об этом и мало, кто решиться запустить туда «луч света» (для этого миф ими и создаётся). Именно в своих отношениях с родственниками АВ особенно щепетильны и тщательно полируют гладко-положительный образ семьи. Но подобные «процедуры» с той или иной степенью стремления к «совершенству» прилагаются ко всему, что может иметь маломальскую ассоциацию с АВ.
Избегание ошибок
Избегание ошибок – процесс непрерывный, свойственный всем АВ примерно в равной степени, т. е. имеющий ключевое для них значение. Признание ошибки для АВ равносильно признанию своей слабости, а слабые не имеют формальных оснований навязывать свою власть другим.
Все продвижения АВ по служебным лестницам строятся на избегании и сокрытии любых ошибок, неточностей, оплошностей, описок, особенно в тех случаях, когда существуют объективные, простые в реализации критерии их выявления, которым достаточно легко соответствовать, и их (ошибок) отсутствие имеет прямое влияние на результат, т. е. на успешное утверждение их власти. Поэтому АВ легко и быстро достигают карьерных пиков, например, в подразделениях/организациях, специализирующих на бухгалтерском учёте. Но и в иных сферах, где существуют строгие, однозначные правила, чёткое следование которым убережет от вероятных претензий, АВ имеют успех.
Ошибки, которых стремятся избегать АВ, – это, прежде всего, несоответствия критериям, признанным большинством на текущий момент (любые последующие корректировки не имеют обратной силы для АВ). Они всегда опираются либо на утвержденный их перечень, либо на мнение общепризнанных экспертов/авторитетов, ссылка на которых должна купировать, по замыслу АВ, любые сомнения.
Для АВ важно именно полное отсутствие ошибок на протяжении длительных отрезков времени – раз допущенная оплошность может разрушить тщательно выстраиваемый миф и часто имеет необратимые последствия (АВ стараются стереть память об этом или хотя бы ассоциацию с собой). Поэтому они очень щепетильны к деталям, порой не существенным и второстепенным (с точки зрения НВ, например), и занимаются тотальным искоренением или сокрытием любых намёков на допущенные ими когда-либо неточности. Полного исключения ошибок АВ добиваются также и от своих подчинённых (в том числе, собственных детей), подвластных групп, организаций (хотя при случае не постесняются назначить «козлом отпущения» конкретного исполнителя для отвода от себя подозрений).
АВ всегда следуют проверенным, зарекомендовавшим себя практикам, дающим надёжный результат. В морально-нравственных вопросах опираются на доминирующие здесь и сейчас системы религиозных верований, традиций, либо светскую этику. Сами АВ не применяют новые методы и вообще методы с высоким риском – они либо делегируют подчинённым их внедрение, либо некоторое время наблюдают за «инноваторами».
Непризнание ошибок
АВ никогда не признают свои ошибки, иначе это будет развенчанием их мифа, краеугольным камнем которого является абсолютная безгрешность. Конечно, в отдельных ситуациях, когда их уличит высший в иерархии, от которого зависит их карьера, они подобострастно признают за собой «погрешность», но только на время, чтобы в последующем «заиграть», стереть со всех возможных носителей любое упоминание об однажды сделанном признании или же убедить в том, что оно сделано вынуждено.
Для АВ взять вину на себя невозможно в принципе, вне зависимости от их статуса, и не стоит ожидать, что они её признают даже под гнётом неопровержимых доказательств. Ошибка и АВ – сочетание несочетаемого, оксюморон, от которого должно быть всем смешно как от какой-нибудь «нелепицы», «несусветной чуши» и «вообще, стыдно обо мне такое думать». Главное – избежать прямой и устойчивой ассоциации между АВ и ошибкой, оборвать эту связь и не дать её восстановить.
Миф АВ не может содержать ошибку, иначе он «сдуется», поэтому его «оболочка» их не пропускает, а любое её повреждение быстро затягивается отрицанием или оправданием. «Оболочка» их мифа – это горизонт событий, за который не может вырваться не один порочащий АВ квант. Приходящее извне и несущее критику поглощается и удерживается, изымаясь из общественного сознания, чтобы не порождать случайного блуждания в умах.
Когда нет возможности обойтись голым отрицанием по типу: «Это невозможно!», «Это не я и точка!» или же убеждением: «Вам показалось – сегодня были сильные магнитные бури», АВ пускают вход многочисленный арсенал оправданий, причём сама форма их подачи (безапелляционная уверенность в сочетании с позитивным настроем, улыбкой) в первую очередь призвана отвлекать внимание от первоначального обвинительного посыла и его сути.
Даже математические ошибки не будут признаны АВ, что уж говорить о тех, которые возникают не из-за нарушения общепризнанных правил или законов природы, а из-за допущения разницы взглядов, интерпретаций, мнений – здесь они просто выдвигают встречный антитезис, опровергающий любые «домыслы» и «инсинуации» оппонента. Если к тому же они обладают абсолютной властью в какой-либо группе, шансов заострить внимание на их оплошностях и погрешностях, и, тем более, принудить признать их, нет никаких.
Непризнание неуважения к себе
Любое проявление неуважения АВ стараются тут же купировать, обезвреживая как само сообщение, так и его источник. Причём скорость в этом принципиальном для них вопросе не менее важна, чем устранение самой «проблемы». Поэтому реакция АВ бывает незамедлительной, выраженной, направленной; часто проступает в тех или иных формах агрессия, которая иногда может выходить из под их контроля.
АВ чётко отслеживают случаи неуважения к себе и склонны находить его там, где объективно отсутствуют к нему предпосылки или даже наоборот, было выражено почтение, но не так, как хотелось бы им. Пограничные ситуации расцениваются ими однозначно не в пользу тех, кто «имел ввиду не то, что вы подумали» (только если не выгодно иное прочтение).
В какой-то степени АВ даже желают, чтобы периодически к ним проявляли неуважение – реальное или надуманное ими, – ищут его вокруг и всегда находят, используя для внушения чувства вины, как один из поводов удовлетворить садистскую потребность. Особенно такой «поиск» выражен у АВ, находящихся на верхних ступенях иерархий, когда враги и конкуренты подавлены и вокруг сформирован устойчивый пул покорных, преданных почитателей.
Неуважением АВ считают любое покушение на их миф и власть: критику, нарушения этических норм (для профилактики нормы могут заимствоваться из других групп и даже времён, как, например, родительское благословление на свадьбу), попрание иерархии, насмешку/иронию над ними. Также как неуважение к ним будет интерпретированы проявления неуважения к преданным им, работающим на них, находящимися с ними в формальной связи: к родственникам, сотрудникам, слугам, соседям, землякам и проч.
Публичного проявления неуважения к себе АВ стараются не замечать, чтобы не привлекать к нему внимания. Или же стремятся отвлечь от него шуткой, переключением на более «значимые» вещи.
Величие
АВ часто ассоциируют себя с величественными, великими, величайшими делами, творениями, людьми, к которым они причастны прямо или косвенно, причём степень их участия может быть минимальной или вовсе мнимой.
АВ обильно добавляют в свой дискурс «величественность» словно соль, считая, что без неё никак нельзя подавать их главное блюдо – миф. При этом они не расставляют солонки, лишая возможности солить по вкусу, оставляя за собой право регулировать столь важные для них смысловые пропорции. Соль способна подавлять, заслонять собой подлинный вкус, но при этом позволяет съесть многое, без неё малопригодное в пищу.
Само по себе «величие» наделено устойчивыми коннотациями, отсылающие к чему-то исключительному, редкому, требующему значительных усилий и таланта, сакрального знания, определяющему важные сферы жизнедеятельности и имеющему право на основании своей исключительности на определённую власть над не способным достичь того же большинством. Поэтому АВ не могут не обратить на него внимания и не использовать его для построения своего мифа.
Постоянное обращение к величию должно создавать у потребителей словесной и письменной продукции АВ не явную, но стойкую ассоциацию между ними и чем-то значительным, намного превосходящим повседневное, рутинное, среднее, чем занимается и чего способна достичь масса.
В зависимости от положения в иерархиях АВ либо прямо подчеркивают своё собственное «величие» в случае доминирования, либо косвенно, через свою причастность к нему при неустойчивых позициях, недостаточных для эффективного подавления возможных сомнений и купирования сопряженных с ними рисков для мифа и власти. Обычно они перепоручают говорить об их величии НН, снимая с себя ответственность за возможное «введение в заблуждение».
АВ всегда обращаются к уже признанному большинством величию, причём, не обязательно разделяя ценности/методы, обеспечившие его достижение, но умалчивая об этом, либо выдавая себя за их истовых приверженцев. Например, если так называемое величие основано на достижениях в творчестве или науке, то АВ, стараясь быть причастными к нему, блефуют, поскольку эти области им не интересны; если же на власти и богатстве, то они вполне искренни.
Никогда не сдаваться
АВ никогда не сдаются и не проигрывают. Они стремятся всегда и во всём быть первыми и никогда не признают своего поражения ни лично, ни публично (если только не желают угодить высшим в иерархиях или тем, кого хотят приручить).
Неагрессивные типы НВ и НН в большинстве ситуаций уступают: НВ – чтобы помочь слабому или доставить удовольствие (кому угодно), а НН – чтобы услужить сильному (АВ или АН) – во всяком случае, они не стремятся выигрывать во что бы то ни стало, любой ценой и скорее всего, отступят, сдадутся (особенно НН) перед агрессивным напором АВ. Для АВ же не существует иных исходов, кроме полной, разгромной, безоговорочной, окончательной победы (идеально, чтобы побежденный сам признал себя таковым) вне зависимости от того, кто перед ними: сопоставимый по совокупности «тактико-технических характеристик» или же заведомо слабый (инвалид, ребёнок или новичок – для АВ нет никакой разницы). Они никому не дают себя обыграть, поскольку поражения крайне нежелательны для их мифа.
Если АВ предполагают, что выигрыш невозможен, они не вступают в борьбу под разными предлогами (порой, совершенно фантастическими), не брезгуя, в том числе, откровенной ложью. Если, всё-таки, они проиграли, то они любыми путями стремятся занизить значимость победы над ними, опорочить победителей, уличить их в нечестных методах (к которым и сами могут прибегать) и добиться отмены результатов. При последующих упоминаниях их проигрыша, пришедших со стороны – сами АВ о нём «забывают», – они будут отрицать либо сам факт события, либо своего поражения, либо утверждать, что подверглись грандиозному «обману». Если же все улики оказались против АВ, и у них нет надежды выпутаться и избежать наказания (что для них неприемлемо ни при каких обстоятельствах), то они применяют последнюю меру – самоубийство без какого-либо признания своего поражения (вины).
Не только сами АВ не желают проигрывать, но и не терпят проигрышей руководимых ими команд (организаций, государств), непосредственных подчинённых или родственников. Отстаивая их неотъемлемое «право» на победу любой ценой, они прибегают к тем же вышеописанным методам, что и в отношении себя.
Своими руками
Упреждение
Упреждение – основа профилактики нежелательных воздействий (угрозы развенчания) на миф АВ. В целом применяется как защитная практика. Миф же сам по себе также можно рассматривать как своего рода защитный комплекс, превентивно воздействующий на психологию окружающих: выставляющий помехи критическому восприятию, попыткам проанализировать поведение, сопоставить факты, чтобы подавлять любые сомнения в зародыше.
АВ не терпят пассивного ожидания, предпочитая действовать на опережение. Способностью к эмпатии также не обладают, поэтому подозревают всех мало-мальски непокорных в том, что самими бы предприняли, будучи на их месте. Тем самым, предупреждая что-либо, они невольно выражают себя, неосознанно обнажая то, что скрыто в их мыслях, и пристрастно наблюдая за ними можно спрогнозировать их поведение в аналогичных условиях, если уметь видеть второе дно в том сосуде, из которого они поят.
«Мы не такие, как вы могли бы подумать» – основной шаблон «тезиса» упредительных высказываний АВ. Они таким образом эксплуатируют определённый психологический феномен, когда обличающий что-либо создает себе некое алиби касаемо предмета своего обличения. «Вы считаете, что я могу ввязаться в эту афёру. Я?! Которую вы так хорошо знаете?», «Я никогда бы так не поступил. Никогда! Понимаете? Это просто невозможно. А он – пожалуйста!» – подобного плана упредительные конструкции широко употребляются АВ.
Упреждение АВ базируется на трансляции абсолютной, непоколебимой уверенности в том, что они говорят. Чаще всего (но не обязательно) выражается риторическим вопросом, содержащим в себе утверждение, которое предлагается просто безропотно принять. В целом, сама напористая форма подачи не предполагает оспаривания: упреждающее высказывание произносится отчётливо, быстро, встраивается в контекст и его трудно вырвать оттуда, чтобы критически осмыслить и как-то на него среагировать. Они буквально заговаривают, не давая вздохнуть, нанизывая одно предложение на другое, создавая логически не преступный словесный конгломерат. Последействие силы убеждения АВ таково, что требуется значительные временные и энергетические ресурсы, чтобы его аналитически преодолеть. За это время АВ предпримут другие меры, чтобы нейтрализовать подозрения в свой адрес.
Первичная правота
АВ всё и всегда делают правильно. Точка. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, они будут об этом регулярно напоминать. Навязчиво, преодолевая отторжение, не обращая внимания на то, что повторяются и вообще, на кажущуюся неэффективность подобной манеры. Текущая эффективность не важна для АВ – им важен длительный, накопительный эффект внушения, как у повсеместной, навязчивой рекламы, когда повторяют одно и то же каждые пятнадцать минут в течение нескольких месяцев, а то и лет. АВ гораздо упорнее рекламы и готовы говорить о своей чистоте и непогрешимости, не считаясь с усталостью и раздражением аудитории (рекламу придумали именно АВ).
АВ распространяют свое влияние тотально, во всех направлениях, и чтобы получить наибольший охват, делегируют формирование и поддержание своего «алиби правильности» подчинённым, прежде всего НН, которые дисциплинировано исполняют все их прихоти, истово веря в то, что их «хозяин» во всех ситуациях прав, прав по умолчанию и не может быть подвергнут суду, особенно низших в иерархиях.
АВ стараются всегда упреждать, но в качестве щита также могут использовать «первичную» правоту. Они говорят то, что хочет услышать и может воспринять доминирующее большинство. Например, если группа, где они утверждают свою власть, религиозна, то и они будут делать упор на своей приверженности религиозным ценностям (например, протестантской этике), которые сами по себе гарантируют достаточный уровень защиты от любых нападок.