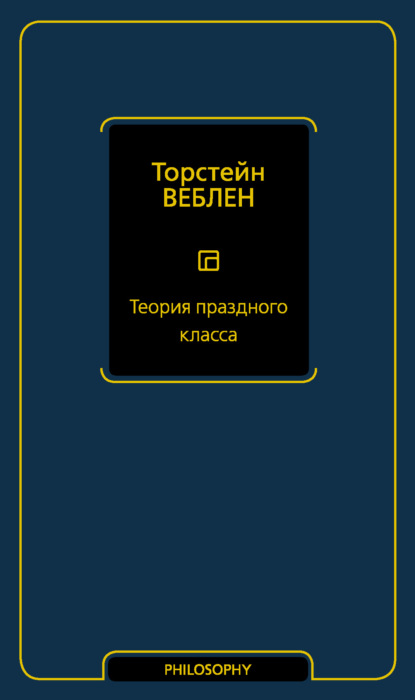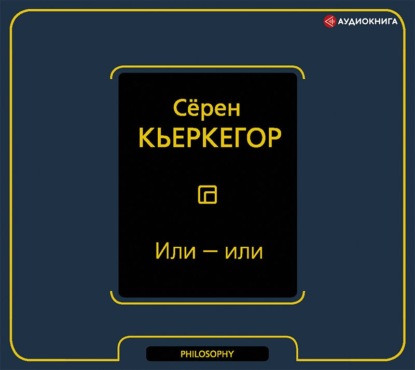Полная версия
Психологические типы
51 Но почему, хотя признается, что «энергия» – обычное слово, само это понятие до такой степени реально, что акционерная электрическая компания выплачивает дивиденды от ее использования? Совет директоров компании вряд ли согласится признать ирреальность энергии и прочие ее метафизические свойства. Для них слово «энергия» обозначает совокупность сил, которую никак нельзя отрицать, ибо она изо дня в день неопровержимо доказывает свое наличие. В той мере, в какой нечто реально, а с этим нечто связано некое слово, самому слову тоже придается «реальное» значение. Раз подобие предметов реально, то и родовое понятие, которое определяет это подобие, будет «реальным», причем в степени ни меньше и ни больше, чем у слов, обозначающих единичные предметы. Смещение главной ценности с одной стороны на другую есть плод индивидуальной установки и психологии конкретной эпохи. Гомперц осознавал наличие этих черт у Антисфена и указывал на следующее:
Трезвый рассудок, отвращение от всякой мечтательности, может быть, также сила индивидуального чувства, для которого отдельная личность и отдельное существо являются выражением полной действительности[61].
Прибавим сюда зависть неполноправного гражданина, пролетария, человека, которого судьба не наградила красотой и который может возвыситься, лишь высмеивая ценности других. Это особенно характерно для нашего киника, который постоянно критиковал других и для которого не было ничего святого в имуществе других; он не чурался даже нарушать неприкосновенность чужого очага для того, чтобы навязать кому-нибудь свои советы.
52 Этому критическому, по существу, направлению духа противостоит мир платоновских идей с их вечной природой. Ясно, что психология человека, придумавшего такой мир, должна была полностью отличаться от мышления школы, приверженной критическим и разлагающим суждениям. Мышление Платона опирается на множественность вещей и создает синтетически конструктивные понятия, которые обозначают и выражают общие подобия вещей как истинно сущие. Незримость и внечеловечность этих понятий прямо противоположны конкретике принципа свойства, что стремится свести материал мышления к неповторяемому, индивидуальному, вещественному. Но это невозможно, как невозможно и предельное применение принципа предикации, который норовит возвысить высказывания о многих единичных предметах до положения вечной субстанции, незыблемо существующей по ту сторону тлена. Оба направления суждений имеют право на существование, оба, несомненно, свойственны каждому человеку. По моему мнению, это лучше всего явствует из того факта, что основатель мегарской школы Евклид из Мегары провозглашал «всеединство», стоящего недосягаемо высоко над всем индивидуальным и частным. Он увязывал воедино элеатский принцип «сущего» с «благим», так что для него «сущее» и «благое» были понятиями тождественными. Им противополагалось «несуществующее зло». Это оптимистическое всеединство было, конечно, очередным родовым понятием, только высшего порядка, оно подразумевало «бытие» и вместе с тем противоречило наблюдаемому миру – гораздо сильнее, нежели платоновские идеи. Своей теорией Евклид предлагал компенсацию за критическое разложение конструктивных суждений на одни только словесные высказывания. Его всеединство настолько отдалено от человека, что оно попросту не способно выражать подобия; оно – нисколько не тип, а плод желаемого единства, которое могло бы охватить неупорядоченное обилие единичных вещей. Мечта о единстве возникает у всех, кто придерживается крайнего номинализма, в той мере, в какой они вообще стремятся отринуть прежнюю негативно-критическую позицию. Потому-то нередко среди таких людей встречается некое единомыслие, до нелепости невероятное и произвольное. Фактически совершенно невозможно исходить в мышлении исключительно из принципа свойства. По этому поводу Гомперц очень метко замечает:
Можно думать, что такая попытка будет всегда терпеть неудачу. Но успех ее совершенно исключался в ту эпоху, когда отсутствовали исторический опыт и сколько-нибудь углубленная психология. Здесь была несомненная опасность, что наиболее известные и заметные, но в общем менее важные выгоды оттеснят более существенные, но скрытые. Когда за образец брали животный мир или первобытного человека и хотели обрезать побеги культуры, то при этом касались многого такого, что было плодом долгого развития, продолжавшегося мириады лет[62].
53 Конструктивное суждение, в отличие от свойства, основанное на подобиях, порождает общие идеи, принадлежащие к высочайшим достижениям культуры. Пусть многие эти идеи остались в прошлом, нас с ними все же связывают нити, которые, по выражению Гомперца, едва ли возможно разорвать. Он продолжает:
Как бездушный труп, так и просто неодушевленное может стать предметом жертвенного почитания, например образа, гробницы, знамена. Если же я произвожу над собой насилие и разрываю эту связь, то я грубею, и все мои чувства испытывают потрясение: ведь они покрывают твердый пол голой действительности как бы богатым покровом цветущей жизни. На высокой оценке всего того, что можно назвать приобретенными ценностями, основывается вся утонченность, все украшение жизни и вся грация, облагорожение животных страстей и, наконец, все искусство. Все это киники хотели безжалостно искоренить. Правда, нельзя не согласиться с ними и с их современными последователями, что есть известная граница, за которой мы не должны допускать этого принципа ассоциаций, если не хотим впасть в суеверие и глупость[63].
54 Мы так подробно остановились на проблеме свойства и предикации не только потому, что она возродилась в схоластических номинализме и реализме, но и потому, что она до сих пор еще не разрешена – и вряд ли разрешится. Здесь мы вновь сталкиваемся с конфликтом типов – между абстрактной точкой зрения, где главную ценность имеет сам мыслительный процесс, и между индивидуальным мышлением и чувством, которые, сознательно или бессознательно, определяют ориентацию чувственного объекта. В последнем случае психический процесс является лишь средством выявления личности. Ничего нет удивительного в том, что именно пролетарская философия присвоила себе принцип свойства. При наличии достаточного количества причин для перемещения внимания к индивидуальному чувству мышление и чувство по необходимости становятся негативно-критическими – из-за скудности позитивной, творческой энергии, которая вся направляется на личную цель; это неизбежно ведет к тому, что мышление и чувство сводят все вокруг к конкретным единицам. Над беспорядочным нагромождением частностей воздвигается в лучшем случае некое туманное «всеединство», очевидно вымышленное. Если же внимание придается психическому процессу, то итог умственной деятельности – идея – возвышается над беспорядочным множеством вещей. Идея по возможности обезличивается, а личное ощущение переносится почти целиком в психический процесс и его гипостазирует.
55 Прежде чем продолжать изложение, нам следует задать себе вопросы: вправе ли мы на основании платоновского учения об идеях предполагать, что Платон лично принадлежал к интровертному типу? допустимо ли на основании психологии киников и мегарцев относить Антисфена, Диогена и Стильпона к экстравертному типу? Осмелюсь утверждать, что дать точный ответ решительно невозможно. Да, чрезвычайно тщательно изучив подлинные сочинения Платона, его documents humains[64], удастся, пожалуй, раскрыть, к какому типу он принадлежал, но я не дерзну высказать свое мнение по этому поводу. Если же кто-либо приведет доказательства в пользу того, что Платон принадлежал к экстравертному типу, это ничуть меня не удивит. Что касается остальных, тут судить нельзя – ввиду отрывочности и скудости дошедших до нас сведений. Раз оба типа мышления определяются смещением ценности, мы с тем же правом можем предположить, что у человека, принадлежащего к интровертному типу, личное ощущение по каким-либо причинам способно выдвинуться на передний план и подчинить себе мышление, придав тому негативный критицизм. Для человека, принадлежащего к экстравертному типу, ценность заключается в отношении к объекту как таковому, а не в личном отношении к нему. Если отношение к объекту приоритетно, то психический процесс ему подчиняется, однако если оно направлено на суть объекта, без вторжения личных ощущений, то такое отношение не будет разрушительным. Конфликт между принципами свойства и предикации надо отметить как особый случай, но мы к нему еще вернемся в наших дальнейших исследованиях более подробно. Особенность данного случая заключается в позитивном и негативном воздействии личного ощущения. Там, где тип (родовое понятие) низводит индивидуальность до степени призрака, тип приобретает реальность коллективной идеи. Там же, где ценность индивидуальности преобладает и упраздняет тип, царит разлагающая анархия. Обе позиции являются преувеличенно крайними и несправедливыми, однако дают яркую картину противоположностей, которая по своей отчетливости и благодаря преувеличению выявляет черты, присущие людям как интровертного, так и экстравертного типа (пусть в более мягкой и скрытой форме); так происходит и в тех случаях, когда мы наблюдаем за индивидуумами, у которых личное ощущение не выступает на передний план. Скажем, в целом не безразлично, является ли психический принцип господином или слугой. Господин мыслит и чувствует иначе, нежели слуга. Даже самое широкое отвлечение от личного в пользу общей ценности не может совершенно устранить влияние личного элемента. А поскольку это влияние неоспоримо, мышление и чувство выказывают разрушительные устремления, обусловленные самоутверждением личности в неблагоприятных социальных условиях. Но мы впали бы в крупную ошибку, пожелав по причине личных предрасположенностей свести общие традиционные ценности к потаенным течениям личного свойства. Это псевдопсихология – и она, увы, существует.
б) Проблема универсалий у схоластов56 Проблема двух противоположных мнений не получила разрешения в Античности по той причине, что tertum non datur[65]. Порфирий как бы передал эту задачу потомкам, так описав ее для грядущего Средневековья: «Mox de generibus et speciebus illud quidem sive subsistant sive in nudis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint an incorpo-ralia, et utrum separata a sensibilibus an in sensibilibus posita et circa haec consistentia, dicere recusabo»[66]. Схоластики подхватили это рассуждение. Начинали они с платоновских воззрений, с universalia ante rem, или общей идеи, как образца всякой единичной, причем полностью обособленного, существующего в «занебесной области»[67] (ἐυ οὐραυίω τόπω). Об этом мудрая Диотима говорит Сократу в беседе о прекрасном:
Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает[68].
57 Этой платоновской форме противопоставлялось, как мы видели, критическое суждение, сводившее родовые понятия к простым словам. Реальное считалось prius, а идеальное – posterius, а обозначалось все как universalia post rem[69]. Промежуточное место между этими двумя воззрениями занимало умеренно реалистическое миропонимание Аристотеля, которое можно охарактеризовать как universalia in re[70], как мнение, что форма (εἶδος) и материя сосуществуют. Аристотелевская точка зрения была конкретизированной попыткой выступить посредником – вполне соответствующей нраву самого Аристотеля. Вопреки трансцендентализму своего учителя Платона, школа которого впоследствии впала в пифагорейский мистицизм, Аристотель твердо стоял на земле – конечно, оставаясь человеком своего времени, когда признавалось конкретным многое из того, что впоследствии было абстрагировано и помещено в инвентарь человеческого духа. Аристотелевское решение проблемы отвечало конкретному характеру античного common sense[71].
58 Эти три формы мышления обнажают и схему распределения мнений в ходе великого средневекового спора об универсалиях, составлявшего сущность схоластики. Вдаваться в подробности этого спора не является моей задачей, даже будь я достаточно для того сведущ. Здесь мы ограничимся лишь коротким описанием для лучшего понимания вопроса. Спор начался в конце XI века с Иоанна Росцеллина[72]. Для него универсалии являлись всего-навсего nomina rerum, именами вещей, или, вспоминая античность, flatus vocis. Он признавал только индивидуальное и был, по меткому замечанию Тейлора, «strongly held by the reality of individuals»[73]. Отсюда с неизбежностью следовало, что и Бога нужно помышлять единично, пусть Он через Троицу обретает три отдельных ипостаси; неудивительно, что в итоге Росцеллин пришел к трибожию. Господствовавший реализм не мог этого допустить, и в 1092 году Суассонский собор осудил учение Росцеллина. Противоположное мнение олицетворял собой Гийом из Шампо, учитель Абеляра[74], сам предельный реалист, но склонный к аристотелевской сдержанности. Согласно Абеляру, Гийом учил, что одна и та же вещь существует во всей своей целостности и одновременно распадается на множество единичных вещей. Между отдельными вещами вообще нет существенных различий, зато имеется многообразие «акциденций». Тем самым фактические различия объяснялись как случайности, – напомню, что в догмате пресуществления хлеб и вино тоже суть «акциденции».
59 На стороне реализма стоял также и Ансельм Кентерберийский, отец схоластики. Истинный платоник, он считал, что универсалии заложены в Божественном Логосе. В том же ключе нужно понимать и психологически важное доказательство бытия Божия, так называемое онтологическое доказательство Ансельма. Это доказательство выводит бытие Всевышнего из идеи Бога. Фихте[75] кратко сформулировал это доказательство следующими словами: «Наличие идеи безусловного в нашем сознании доказывает реальное существование этого безусловного». Ансельм полагал, что умственное представление о Верховном Существе влечет за собой качество бытия (non potest esse in intellectu solo[76]). Далее он делал такой вывод: «Sic ergo vere est aliquid, quo majus cogitari non potest, ut nec cogitari possit non esse, et hoc es tu, Domine Deus Noster»[77]. Логическая несостоятельность онтологического доказательства столь очевидна, что приходится искать психологическое обоснование тех мотивов, по которым мыслитель, подобный Ансельму, мог прибегнуть к такой аргументации. Непосредственным поводом, как кажется, выступила общая психологическая предрасположенность реализма как такового, а именно: имеются люди, даже, в отдельные эпохи, целые группы людей, которые выше прочего ставят идею, так что она оказывается в жизни дороже фактических предметов и их жизненной ценности. Такие люди вряд ли способны допустить, чтобы их наивысшая ценность не существовала на самом деле. Ведь они обладают неоспоримым доказательством действенности идеи: вся их жизнь, мышление и чувства всецело преданы этому убеждению. Незримость идеи ничего не значит в сравнении с ее несомненной действенностью, которая сама по себе творит реальность. У таких людей понятие действительности идеальное, а не чувственное.
60 Современник Ансельма и его противник Гонилон выступил с опровержением: мол, столь распространенное представление об островах Блаженных (восходящее к описанию феаков у Гомера[78]) вовсе не доказывает действительного существования этих островов. Что ж, разумность такого возражения очевидна. На протяжении столетий выдвигались иные, аналогичные или сходные возражения, но это ничуть не помешало онтологическому доказательству сохраниться вплоть до недавних времен; даже в XIX веке оно имело сторонников – в лице Гегеля, Фихте и Лотце[79]. Нельзя приписывать эти противоречия во взглядах некоей порочной логике или упорным заблуждениям с той и другой стороны. Поступать так нелепо. Скорее, налицо глубоко укорененные психологические различия, которые надлежит признать и всегда иметь в виду. Думать, будто существует лишь одна психология или лишь один основной психологический принцип, равносильно подчинению невыносимой тирании лженаучного предрассудка о нормальном человеке. Молва постоянно рассуждает о человеке и его «психологии», причем так, как если бы не имелось на свете ничего, кроме этой «психологии». Точно так же мы рассуждаем о действительности, как если бы существовала одна-единственная действительность. Но действительность есть то, что проявляется в человеческой душе, а вовсе не то, что некоторые признают «действительным», не то, по поводу чего делаются предвзятые обобщения. Даже когда обобщают по всем правилам науки, не следует забывать о том, что наука – не summa всей жизни, что это всего одна из психологических установок, одна из форм человеческого мышления.
61 Онтологическое доказательство не является ни аргументом, ни доказательством; оно представляет собой только психологическую констатацию того факта, что на свете имеются люди, для которых некая идея действенна и действительна, обладает действительностью, соперничающей с реальностью воспринимаемого мира. Сенсуалист отстаивает достоверность своей «реальности», а человек идеи ратует за свою психологическую действительность. Психология должна смириться с существованием этих двух (или нескольких) типов, и не нужно видеть в одном типе принижение другого, не нужно пытаться их совмещать, словно в уверенности, что все «иное» есть функция одного и того же. Отсюда, к слову, не проистекает, что ошибочен испытанный временем научный принцип «Principia explicandi praeter necessitatem non sunt multiplicanda»[80]. Необходимо множество различных психологических объяснений. Помимо приведенных доводов, в пользу такого мнения говорит и следующий знаменательный факт: несмотря на окончательное, казалось бы, опровержение онтологического доказательства Кантом, целый ряд философов после Канта снова привлек это доказательство. В результате мы сегодня так же далеки – или, быть может, еще дальше – от примирения пар противоположностей (идеализм и реализм, спиритуализм и материализм и все побочные вопросы), чем люди раннего Средневековья, когда имелось хотя бы общее мировоззрение.
62 Вряд ли найдутся логические доводы в пользу онтологического доказательства, способные удовлетворить современный интеллект. Само по себе онтологическое доказательство ничего общего с логикой не имеет. В той форме, в какой Ансельм заповедал его истории, онтологическое доказательство есть не что иное, как психологический факт, лишь впоследствии интеллектуализированный или рационализированный (тут, конечно, не обошлось без petitio principii[81] и прочих софизмов). Именно здесь и проявляется несокрушимая значимость этого доказательства: оно продолжает бытовать, а consensus gentium[82] признает его за факт, общепринятый и общераспространенный. Считаться приходится с фактом, а не с софистическими обоснованиями; ошибка онтологического доказательства заключается лишь в том, что оно норовит опираться на логику, тогда как на самом деле он гораздо больше простого логического доказательства. Перед нами психологический факт, проявление и действенность которого столь очевидны, что он попросту не нуждается в доказательствах. По consensus gentium, Ансельм был прав, утверждая, что Бог есть, потому что Он помышляем. Это общеизвестная истина, вывод по тождеству. Логическое обоснование тут предстает совершенно излишним и, кроме того, неправильным; беда в том, что Ансельм стремился навязать идее Бога вещную реальность. Он говорил: «Existit ergo procul dubio aliquid, quo majus cogitari non volet, et in intellectu et in re»[83]. Для схоластов «res» было понятием, равнозначным мысли. Так, Дионисий Ареопагит[84], сочинения которого оказали значительное влияние на ранний период средневековой философии, различал entia rationalia, intellectualia, sensibilia, simpliciter existentia (сущности рациональные, умственные, чувственные и просто существующие). Фома Аквинский называл res тем, что есть в душе (quod est in anima), и тем, что вне души (quod est extra animam)[85]. Такое уравнивание понятий указывает, что воззрениям того времени еще была свойственна примитивная вещность («реальность»), мысли. Учитывая это обстоятельство, нетрудно понять психологию онтологического доказательства. Гипостазирование идеи не является существенным шагом вперед; это непосредственный отголосок примитивной чувственности мысли. Возражение Гонилона психологически неудовлетворительно: идея островов Блаженных встречается часто, как свидетельствует consensus gentium, но она менее действенна, чем идея Бога, которой поэтому и принадлежит более высокая «реальная ценность».
63 Все последующие мыслители, вновь прибегавшие к онтологическому доказательству, впадали в ошибку Ансельма (по крайней мере, по сути). Рассуждения Канта можно считать исчерпывающими, так что мы кратко на них остановимся. Кант говорит:
Понятие абсолютно необходимой сущности есть чистое понятие разума, т. е. лишь идея, объективная реальность которой далеко еще не доказана тем, что разум нуждается в ней… Но безусловная необходимость суждений не есть абсолютная необходимость вещей. В самом деле, абсолютная необходимость суждения есть лишь обусловленная необходимость вещи или предиката в суждении[86].
64 Непосредственно перед этим Кант приводит как пример необходимого суждения тот факт, что треугольник должен иметь три угла. Ссылаясь на это положение, он продолжает:
Приведенное выше положение не утверждает, что три угла безусловно необходимы, а устанавливает, что если дан треугольник, то также необходимо имеются три угла [в нем]. Однако сила иллюзии этой логической необходимости столь велика, что, a priori составив себе понятие о вещи, включающее, по нашему мнению, существование в своем объеме, мы полагаем, будто можно с уверенностью заключить отсюда следующее: так как объекту этого понятия существование присуще необходимо, т. е. при условии, что я полагаю эту вещь как данную (существующую), то ее существование также полагается необходимо (согласно закону тождества), и потому сама эта сущность должна быть безусловно необходимой, так как ее существование мыслится вместе с произвольно принятым нами понятием и при условии, что я полагаю его предмет.
65 Власть иллюзии, на которую намекает Кант, есть не что иное, как первобытная магическая власть слова, тайно проникающая в понятие. Потребовалось длительное развитие, чтобы люди наконец поняли, что слово, или flatus vocis, далеко не всегда обозначает реальность или содействует ее проявлению. Но и частичное признание этого факта не привело к общему признанию и не освободило умы, суеверно подчиненные сформулированным понятиям. Такое «инстинктивное» суеверие явно заключает в себе нечто такое, что не поддается уничтожению, что предъявляет права на существование, и на это обстоятельство до сих пор обращали мало внимания. Сходно, то есть посредством иллюзии, в онтологическое доказательство прокрадывается и паралогизм (ложное умозаключение); Кант поясняет происходящее. Он начинает с упоминания «безусловно необходимых субъектов», представление о которых якобы присуще понятию действительности и от которого поэтому нельзя отмахнуться, не впадая во внутреннее противоречие. В итоге появляется понятие «всереальнейшей сущности».
Вы говорите, что она заключает в себе всю реальность и что вы имеете полное основание допускать такую сущность как возможную… Но всякая реальность включает в себя также и существование; следовательно, существование входит в понятие возможной вещи. Если эта вещь отрицается, то отрицается внутренняя возможность ее, что противоречиво. …В таком случае или ваша мысль есть сама эта вещь, или же вы предполагаете, что существование принадлежит к возможности вещи, и затем уверяете, будто о [ее] существовании вы заключили из [ее] внутренней возможности, а это есть лишь жалкая тавтология…
…Бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть только полагание вещи или некоторых определений само по себе. В логическом применении оно есть лишь связка в суждении. Положение Бог есть всемогущее [существо] содержит в себе два понятия, имеющие свои объекты: Бог и всемогущество; словечко есть не составляет здесь дополнительного предиката, а есть лишь то, что предикат полагает по отношению к субъекту. Если я беру субъект (Бог) вместе со всеми его предикатами (к числу которых принадлежит и всемогущество) и говорю Бог есть или есть Бог, то я не прибавляю никакого нового предиката к понятию Бога, а только полагаю субъект сам по себе вместе со всеми его предикатами, и притом как предмет в отношении к моему понятию. Оба они должны иметь совершенно одинаковое содержание, и потому к понятию, выражающему только возможность, ничего не может быть прибавлено, потому что я мыслю его предмет просто как данный (посредством выражения он есть). Таким образом, в действительном содержится не больше, чем в только возможном. Сто действительных талеров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров… мое имущество больше при наличии ста действительных талеров, чем при одном лишь понятии их (т. е. возможности их).