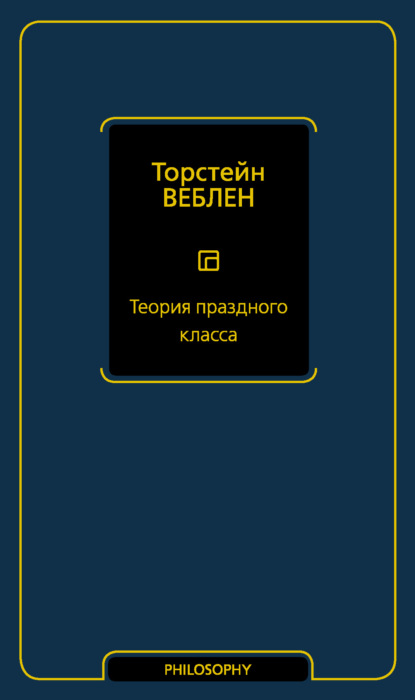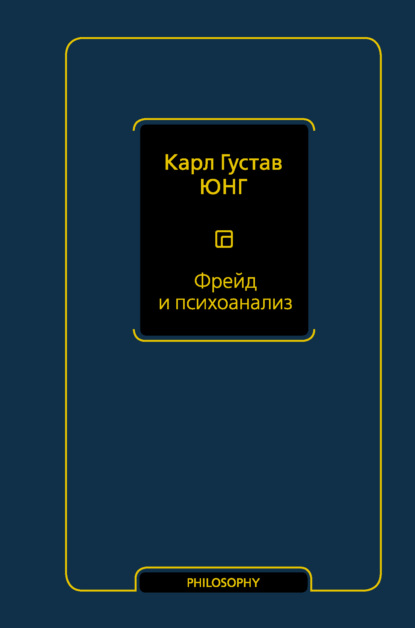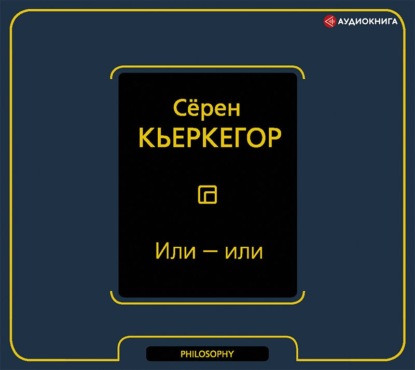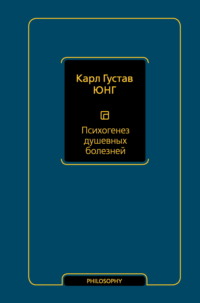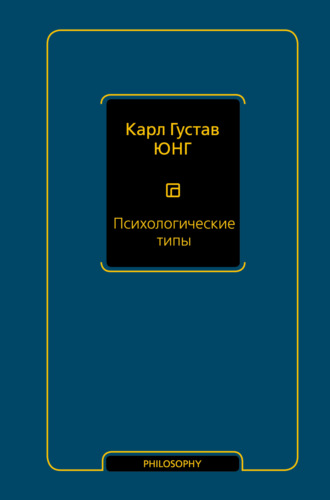
Полная версия
Психологические типы
Итак, что бы и сколько бы ни содержало наше понятие предмета, мы, во всяком случае, должны выйти за его пределы, чтобы приписать предмету существование. Для предметов чувств это достигается посредством связи с каким-нибудь из моих восприятий по эмпирическим законам; но что касается объектов чистого мышления, то у нас нет никакого средства познать их существование, потому что его необходимо было бы познавать совершенно a priori, между тем как осознание нами всякого существования (будь то непосредственно восприятиями или посредством выводов, связывающих что-то с восприятием) целиком принадлежит к единству опыта, и, хотя нельзя утверждать, что существование вне области опыта абсолютно невозможно, тем не менее оно [имеет характер] предположения, которое мы ничем обосновать не можем.
66 Столь подробное и пространное изложение основных выводов Канта показалось мне необходимым, поскольку именно тут присутствует самое точное разделение на esse in intellectu и esse in re[87]. Гегель упрекал Канта за попытку сопоставлять идею божества с сотней воображаемых талеров. Но, как совершенно справедливо замечал Кант, логика устраняет всякое содержание, она перестала бы быть логикой, допустив преобладание содержания. С точки зрения логики, нет и не может быть третьего между утверждениями «либо то – либо другое», зато между intellectus и res встает anima, и esse in anima[88] делает онтологическое доказательство целиком несостоятельным. В «Критике практического разума» Кант предпринял попытку оценить с философской точки зрения это esse in anima. Он ввел понятие Бога как постулат практического разума, выводимый через познаваемое априори «необходимое в силу уважения к моральному закону стремление к высшему благу и вытекающее отсюда предположение об объективной реальности»[89].
67 Значит, esse in anima есть психологический факт, по поводу которого нужно лишь установить, встречается ли он в человеческой психологии однократно, многократно или универсально. Данность, именуемая Богом и представляемая как «высшее благо», есть, на что указывает само имя, наивысшая духовная ценность, или, иными словами, понятие, наделяемое (или вбирающее в себя) высочайшее и наиболее общее значение в определении наших поступков и мыслей. На языке аналитической психологии понятие Бога совпадает с конкретным понятийным комплексом, который, согласно нашему определению, сосредоточивает в себе наибольшее количество либидо (психической энергии). Отсюда следует, что фактическое понятие Бога у различных людей должно быть психологически совершенно различным, что и подтверждает опыт. Бог, даже как идея, – не конкретное и незыблемое существо, а уж тем более Он не таков в реальности. Мы знаем, что высшая ценность человеческой души характеризуется по-разному. Есть души ὤν ὁ νεὸς ἡ κοιλία[90], чей «бог – чрево», и есть те, кто почитает деньги, науку, власть, или сексуальность и пр. По предпочтениям высшего блага развивается и вся психология индивидуума – по крайней мере, в главных ее чертах, так что психологическая «теория», построенная исключительно на каком-либо одном основном влечении, будь то сексуальность, например, или жажда власти, способна объяснить лишь второстепенные черты, будучи примененной к человеку иной ориентации.
в) Попытка примирения у Абеляра68 Будет небезынтересно узнать, каким образом сами схоласты пытались разрешить спор об универсалиях и тем самым создать равновесие между типическими противоположностями, разделенными условием tertium non datur. Эту попытку примирения предпринял Абеляр, несчастный человек, воспылавший любовью к блистательной Элоизе и заплативший за свою страсть утратой мужского естества. Всякому, кто знаком с историей жизни Абеляра, известно, сколь глубока была пропасть между противоположностями в его собственной душе и сколь горячо он желал философски их примирить. Де Ремюза в своей книге[91] называет Абеляра эклектиком, который критиковал и отвергал все выдвинутые теории об универсалиях, но при этом не стеснялся заимствовать из них все истинное и приемлемое. Сочинения Абеляра, в которых говорится об универсалиях, сбивчивы и непонятны, ибо автор постоянно и подробно обсуждает все доводы в пользу и против каждого суждения; даже его ученики не понимали своего наставника, поскольку тот отвергал все уже высказанные точки зрения и старался примирить противоположности. Одни видели в нем номиналиста, другие же – реалиста. Такое недоразумение очень показательно, ведь куда проще мыслить в рамках определенного типа, логически и последовательно в нем оставаясь, нежели мыслить одновременно за два типа, ибо промежуточного выбора нет. При стойком следовании реализму или номинализму приходишь к законченности суждений, ясности и единомыслию. А старания примирить противоположности создают путаницу и ведут к неудовлетворительному исходу, потому что примирение неприемлемо ни для одного из типов. Де Ремюза выбрал из сочинений Абеляра целый ряд почти противоречивых его утверждений по нашему предмету; он восклицает: «Faut-il admettre, en effet, ce vaste et incohérent ensemble de doctrines dans la tête d’un seul homme, et al philosophie d’Abélard est-elle le chaos?»[92].
69 Из номинализма Абеляр вынес убеждение, будто универсалии суть слова в смысле интеллектуальных условностей, выраженных речью; оттуда же он взял мнение, что в действительности любая вещь не есть нечто общее, что она всегда является обособленной, что субстанция – не универсальный, а всегда индивидуальный факт. У реализма Абеляр заимствовал ту истину, что genera и species[93] представляют собой соединения индивидуальных фактов и вещей на почве несомненной схожести. Способ объединения состоял в «концептуализме», под которым подразумевалась функция, постигающая воспринятые индивидуальные объекты, классифицирующая их по схожести на роды и виды и тем сводящая абсолютную множественность к относительному единству. При всей неоспоримой множественности и всем разнообразии отдельных вещей наличие сходств между ними, позволяющее подводить их под одно общее понятие, тоже не подлежит сомнению. Человеку, психологически расположенному к восприятию именно таких сходств, собирательное понятие как бы дается от рождения, оно положительно ему навязывается наряду с фактической данностью чувственных восприятий. А вот тому, кто психологически расположен к восприятию отличительных признаков вещей, сходства предстают через усилие: он видит различия, которые действительность ему навязывает столь же решительно, как сходства – другому типу.
70 Кажется, будто сочувствие к чему-либо есть психологический процесс, который особенно ярко высвечивает именно разнородность объектов; а абстрагирование является, напротив, процессом, призванным отвлекать от фактических различий между отдельными вещами в пользу общих сходств, или оснований идей. Сочетание того и другого порождает функцию, которая лежит в основе понятия концептуализма. Следовательно, последний строится на единственно возможной психологической функции, вообще способной примирить разногласие между номинализмом и реализмом и ввести оба направления в общее русло.
71 Хотя средневековые авторы произносили немало громких слов о душе, психологии как таковой в ту пору не было. Она принадлежит к числу самых юных наук. Существуй же в те времена психология как наука, Абеляр бы наверняка вывел объединяющую формулу esse in anima. Де Ремюза ясно это осознает:
Dans la logique pure, les universaux ne sont que les termes d’un langagede convention. Dans al physique, qui est pour lui plus transcendante qu’expérimentale, qui est sa véritable ontologie, les genres et les espèces se fondent sur al manière dont les êtres sont réellement produits et constitués. Enfin, entre la logique pure et la physique, il y a un milieu et comme une science mitoyenne, qu’on peut appeler une psychologie, où Abélard recherche comment s’engendrent nos concepts, et retrace toute cette généalogie intellectuelle des êtres, tableau ou symbole de leur hiérarchie et de leur existence réelle[94].
72 Универсалии ante rem и post rem продолжали вызывать споры и в последующие столетия, просто они сбросили свое схоластическое облачение и предстали в новых формах. По сути же, это была старая неразрешенная проблема. В попытках ее разрешения мыслители склонялись то к реализму, то к номинализму. Наука XIX века больше тяготела к номинализму, хотя в начале того столетия философия приняла сторону реализма. Но противоположности уже не отстоят так далеко друг от друга, как во времена Абеляра. У нас есть психология, наука-посредница, которая единственная способна объединить идею и вещь, не чиня насилия над ними. Такая возможность заложена в самой природе психологии, но нельзя утверждать, что психология сумела справиться с этой задачей. Потому мы не можем не согласиться со словами де Ремюза:
Abélard a donc triomphé; car, malgré les graves restrictions qu’une critique clairvoyante découvre dans le nominalisme ou le conceptualisme qu’on lui impute, son esprit est bien l’esprit moderne à son origine. Il l’annonce, il le devance, il le promet. La lumière qui blanchit au matin l’horizon est déjà cellede l’astre encore invisible qui doit éclairer le monde[95].
73 Тому, кто отвергает существование психологических типов и тот факт, что истинность одного типа является заблуждением другого, попытка Абеляра примирить противоположности покажется всего-навсего очередным схоластическим хитросплетением. Но коль скоро признано наличие двух типов, эта попытка видится знаменательным достижением. Абеляр ищет промежуточную точку зрения в sermo[96], которое для него – не столько «рассуждение» или «речь», сколько строгое высказывание с определенным значением; это определение, которое для закрепления своего значения требует нескольких слов. Абеляр не говорит о verbum, потому что verbum с точки зрения номиналиста тождественно vox[97], flatus vocis. Великая психологическая заслуга античного и средневекового номинализма состоит именно в том, что номиналисты сумели расторгнуть первобытное магическое или мистическое тождество слова с объектом – расторгнуть настолько, что пострадал даже тип, которому привычно не держаться крепко за вещи, а абстрагировать идеи и ставить их над вещами. Абеляр, обладавший такой широтой кругозора, не мог не обратить внимания на эту ценность номинализма. Для него слово оставалось vox, но вот sermo, по его выражению, обозначало нечто большее: оно вносило устойчивый смысл, описывало общее, идею (мыслимое, воспринятое в вещах). Универсальное обитало в sermo – и только в нем. Теперь становится понятным, почему Абеляра причисляли к номиналистам, хотя и несправедливо, ибо он полагал, что универсальное реальнее vox.
74 Наверняка излагать концептуализм было непросто, поскольку Абеляру приходилось выстраивать свою теорию из противоречий. В одной из сохранившихся оксфордских рукописей[98] находим эпитафию на Абеляра, дающую, как мне кажется, прекрасное представление о парадоксальности его учения:
Hic docuit voces cum rebus significare,Et docuit voces res significando notare;Errores generum correxit, ita specierum.Hic genus et species in sola voce locavit,Et genus et species sermones esse notavit.‹…›Sic animal nullumque animal genus esse probatur.Sic et homo et nullus homo species vocitatur[99].75 Противоположности едва ли возможно выразить четче, нежели в парадоксах, если, конечно, выражение направлено на какую-либо конкретную точку зрения – в случае Абеляра, на интеллектуальную. Не будем забывать о том, что различие между номинализмом и реализмом в своей основе было не только логически-интеллектуальным, но и психологическим и сводилось в конечном счете к типическим различиям психологических установок – по отношению и к объекту, и к идее. Тот, кто ориентирован на идею, постигает мир и реагирует с точки зрения идеи. Но тот, кто ориентирован на объект, постигает и реагирует по своим ощущениям. Для него все абстрактное второстепенно, ведь умопостигаемое должно представляться ему не столь существенным, тогда как у первого типа все обстоит как раз наоборот. Тот, кто ориентирован на объект, будет, конечно, номиналистом («имя – только дым и звук»[100]) до тех пор, пока не научится компенсировать свою объектную установку. Когда же это случится, он, имея к тому склонность, сделается до крайности строгим логиком, непревзойденным в скрупулезности, методичности и сухости. Идейно-ориентированный человек логичен по своей природе, потому-то он не в состоянии ни понять, ни оценить учебник логики. Компенсация такого типа превращает его, как мы видели на примере Тертуллиана, в человека страстных чувств, которые, однако, все равно пребывают под властью круга идей. А тот, кто стал логиком в силу компенсации, остается при этом под властью объектов.
76 Это рассуждение показывает нам теневую сторону мышления Абеляра. Попытка примирения страдала односторонностью. Будь конфликт между номинализмом и реализмом всего-навсего логическим и интеллектуальным, трудно было бы понять, почему невозможна любая окончательная формулировка, кроме парадоксальной. Но раз это преимущественно психологический конфликт, односторонняя логически-интеллектуальная формулировка должна неминуемо вести к парадоксу – sic et homo et nullus homo species vocitatur[101]. Логически-интеллектуальное выражение попросту не способно, даже в форме sermo, предоставить ту «промежуточную» формулу, которая была бы справедливой для обоих противоположных психологических установок (а все потому, что оно опирается исключительно на абстракции и пренебрегает конкретной действительностью).
77 Всякая логически-интеллектуальная формулировка, сколь угодно совершенная, отвергает объективные впечатления жизненности и мгновенности. Я полагаю, что она должна учитывать их, иначе вообще не сможет стать формулировкой, и мы утратим наиболее существенное и ценное для экстравертной установки – соотнесенность с объектом. Отсюда следует, что невозможно дойти до какой-либо удовлетворительной объединяющей формулы, полагаясь лишь на одну из этих двух установок. Между тем человек по своей природе не может пребывать в состоянии такой двойственности, даже если допустить, что его дух заявляет иное; ведь эта двойственность – не плод какой-то отвлеченной философии, она проявляет себя повседневно в отношениях человека к самому себе и к миру вокруг. Поскольку речь идет, в сущности, именно об этом, выясняется, что вопрос двойственности никак нельзя разрешить ученым спором номиналистов и реалистов. Тут необходимо посредничество третьей, примиряющей точки зрения. В esse in intellectu действительность недостаточно осязаема, а в esse in re недостаточно духовности. Но идея и вещь находят точку соприкосновения в психике человека, которая создает равновесие между ними. Во что выродится в конце концов идея, если психика не раскроет ее жизненную ценность? С другой стороны, чем окажется вещь, если психика лишит ее силы чувственного впечатления? Что такое реальность, если это не действительность в нас самих, не esse in anima? Живая действительность – не плод фактического, объективного состояния вещей и не плод сформулированных идей; она складывается через слияние того и другого в живом психологическом процессе, в esse in anima. Лишь благодаря специфической жизнедеятельности психики чувственное восприятие достигает той глубины впечатлений, а идея – той действенной силы, что выступают неотъемлемыми составными частями живой действительности.
78 Эту самодеятельность психики нельзя объяснить ни рефлекторной реакцией на чувственное раздражение, ни попыткой осуществления вечных идей; как и всякий жизненный процесс, это постоянный творческий акт. Изо дня в день психика творит действительность. Этой деятельности я не могу дать иного определения, кроме фантазии. В фантазии столько же чувства, сколько и мысли, она одинаково причастна интуиции и ощущению. Нет ни одной другой психической функции, которая не была бы нераздельно слита через фантазию с прочими функциями. Фантазия предстает то в изначальной форме, то как свежайший и дерзновеннейший продукт соединения всех наших способностей. Потому я и считаю фантазию наиболее ярким выражением специфической активности человеческой психики. Это прежде всего творческая деятельность, откуда исходят ответы на все вопросы, на которые ответ вообще возможен; она – мать всех возможностей, и в ней в живом союзе слиты, наравне со всеми психологическими противоположностями, внутренний мир с миром внешним. Фантазия была во все времена и остается тем мостом, который соединяет несовместимые притязания объекта и субъекта, экстраверсии и интроверсии. Только в ней оба механизма соединяются.
79 Постигни Абеляр психологическое различие между двумя точками зрения, он должен был бы, рассуждая последовательно, прибегнуть к фантазии для выведения объединяющей формулы. Но в области науки фантазия находится под тем же запретом, что и чувство. Впрочем, стоит лишь признать конфликт психологическим, тотчас же психологии придется принять не только точку зрения чувства, но и примиряющую точку зрения фантазии. А далее поджидает великое затруднение, поскольку фантазия в большинстве случаев есть плод нашего бессознательного. Да, она содержит и сознательные элементы, но особенно характерно для нее то, что она фактически непроизвольна и противостоит содержаниям сознания. В этом она сродни сновидениям, которые, правда, еще непроизвольнее и отчужденнее от сознания.
80 Отношение человека к своей фантазии во многом обусловливается отношением к бессознательному вообще, а последнее, в свою очередь, во многом обусловлено духом времени. Судя по степени господствующего рационализма, человек бывает более или менее склонен признавать свое бессознательное и его плоды. Христианство, как и всякая прочая замкнутая религиозная форма, отличается несомненной склонностью подавлять бессознательное в индивидууме, тем самым парализуя и фантазию. Вместо нее религия предлагает устойчивые символические формы, призванные вытеснить бессознательные образы. Символические понятия всех религий суть воссоздания бессознательных процессов в типической и обязательной форме. Религиозное учение дает, так сказать, исчерпывающие сведения о «начале и конце» и о мире по ту сторону человеческого сознания. Везде, где удается проследить возникновение какой-либо религии, мы видим, что образы вероучения приходят к основателю в виде откровений, то есть как конкретизированное выражение бессознательных фантазий. Содержания, всплывающие из недр личного бессознательного, провозглашаются общезначимыми, замещают индивидуальные фантазии последователей этого вероучителя. Евангелие от Матфея сохранило сведения о земной жизни Христа, подтверждающие этот вывод: в истории искушения бесами идея царствования, всплывая из недр бессознательного, является основателю религии дьявольским видением, сулит власть над царствами земными. Ошибись Христос, прими Он Свою фантазию конкретно, то есть буквально, на свете стало бы одним сумасшедшим больше, и только. Но Он отверг конкретизм фантазии и вступил в мир как царь, которому подвластны просторы небес. Он не сделался параноиком, что доказывает сам Его успех. Звучащие порой со стороны психиатров рассуждения о патологических элементах в психологии Христа – всего-навсего нелепая рационалистическая болтовня, далекая от понимания подобных процессов в истории человечества.
81 Форма, в которой Христос представил миру содержания Своего бессознательного, была воспринята и объявлена общеобязательной. Вследствие этого все индивидуальные фантазии утратили значимость и ценность – более того, они провозглашались ересью и подвергались преследованию, как доказывают история гностического движения и судьба всех позднейших еретиков. В том же смысле высказывается и пророк Иеремия:
Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних…
Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось».
Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?
Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?
Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? – говорит Господь[102].
82 На заре христианства епископы ревностно трудились над искоренением деятельности индивидуального бессознательного среди монахов. Особенно ценными сведениями делится архиепископ Афанасий Александрийский в своем жизнеописании святого Антония. Наставляя монастырскую братию, он повествует о призраках и видениях, об опасностях души, одолевающих того, кто в одиночестве предается молитвам и посту. Афанасий предостерегает от дьявольских козней, ибо зло умеет принимать разные обличья с целью довести святых мужей до падения. Дьявол, разумеется, есть не что иное, как внутренний голос самого отшельника, взывающий из недр бессознательного и отвергающий насильственное подавление индивидуальной природы. Приведу ряд цитат из этой труднодоступной книги; они наглядно покажут, сколь систематически бессознательное подавлялось и обесценивалось[103].
Итак, демоны всякому христианину, наипаче же монаху, как скоро увидят, что он трудолюбив и преуспевает, прежде всего предприемлют и покушаются – положить на пути соблазны. Соблазны же их суть лукавые помыслы. Но мы не должны устрашаться таковых внушений. Молитвою, постами и верою в Господа враги немедленно низлагаются. Впрочем, и по низложении они не успокаиваются, но вскоре снова наступают коварно и с хитростью. И когда не могут обольстить сердце явным и нечистым сластолюбием, тогда снова нападают иным образом, и стараются уже устрашить мечтательными привидениями, претворяясь в разные виды и принимая на себя подобие женщин, зверей, пресмыкающихся, великанов, множества воинов. Но и в таком случае не должно приходить в боязнь от этих привидений; потому что они суть ничто, и скоро исчезают, особливо, если кто оградит себя верою и крестным знамением… Они коварны и готовы во все превращаться, принимать на себя всякие виды. Нередко, будучи сами невидимы, представляются они поющими псалмы, припоминают изречения из Писаний. Иногда, если занимаемся чтением, и они немедленно, подобно эху, повторяют то же, что мы читаем; а если спим, пробуждают нас на молитву, и делают это так часто, что не дают почти нам и уснуть. Иногда, приняв на себя монашеской образ, представляются благоговейными собеседниками, чтобы обмануть подобием образа, и обольщенных ими вовлечь уже во что хотят. Но не надобно слушать их, пробуждают ли они на молитву, или советуют вовсе не принимать пищи, или представляются осуждающими и укоряющими нас за то самое, в чем прежде были с нами согласны. Ибо не из благоговения и не ради истины делают это, но чтобы неопытных ввергнуть в отчаяние. Подвижничество представляют они бесполезным, возбуждают в людях отвращение от монашеской жизни, как самой тяжкой и обременительной, и препятствуют вести этот, противный им, образ жизни.
Вот другой рассказ святого Антония.
Однажды явился с многочисленным сопровождением демон весьма высокий ростом, и осмелился сказать: я – Божия сила; я – Промысл; чего хочешь, все дарую тебе. – Тогда дунул я на него, произнеся имя Христово, занес руку ударить его и, как показалось, ударил, – и при имени Христовом тотчас исчез великан этот со всеми его демонами. Однажды, когда я постился, пришел этот коварный в виде монаха, имея у себя призрак хлеба, и давал мне такой совет: ешь, и отдохни после многих трудов; и ты – человек, можешь занемочь. – Но я, уразумев козни его, восстал на молитву, и демон не стерпел сего, скрылся, и исшедши в дверь, исчез, как дым. Много раз в пустыне мечтательно показывал мне враг золото, чтобы только прикоснулся я к нему и взглянул на него; но я отражал врага пением псалмов, и он исчезал. Часто демоны наносили мне удары, но я говорил: ничто не отлучит меня от любви Христовой. И после сего начинали они наносить сильнейшие удары друг другу. Впрочем, не я удерживал и приводил их в бездействие, но Господь… Однажды кто-то в монастыре постучался ко мне в дверь. И вышедши, увидел я какого-то явившегося огромного великана. Потом, когда спросил я: кто ты? – Он отвечал: я – сатана. – После сего на вопрос мой: для чего же ты здесь? – сказал он: почему напрасно порицают меня монахи и все прочие христиане? почему ежечасно проклинают меня? – И на слова мои: а ты для чего смущаешь их? – ответил: не я смущаю их; они сами себя возмущают; а я стал немощен… Нет уже мне и места, не имею ни стрел, ни города. Везде христиане: и пустыня наконец наполняется монахами. Пусть же соблюдают сами себя, и не проклинают меня напрасно. Тогда, подивившись благодати Господней, сказал я ему: всегда ты лжешь, и никогда не говоришь правды; однако же теперь, и против воли, сказал ты это справедливо. Ибо Христос, пришедши, соделал тебя немощным, и низложив, лишил тебя всего. – Услышав имя Спасителя и не терпя палящей силы его, диавол стал невидим.