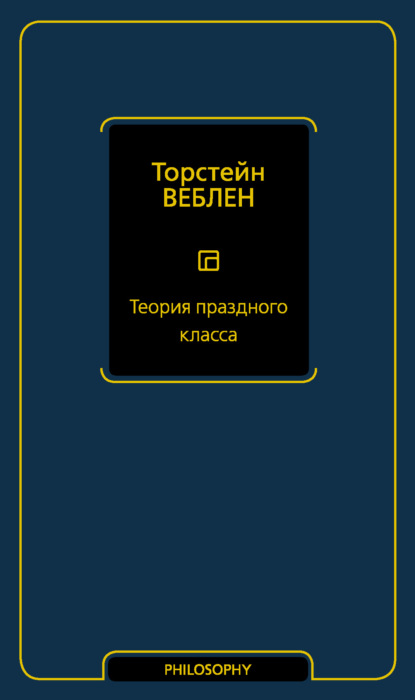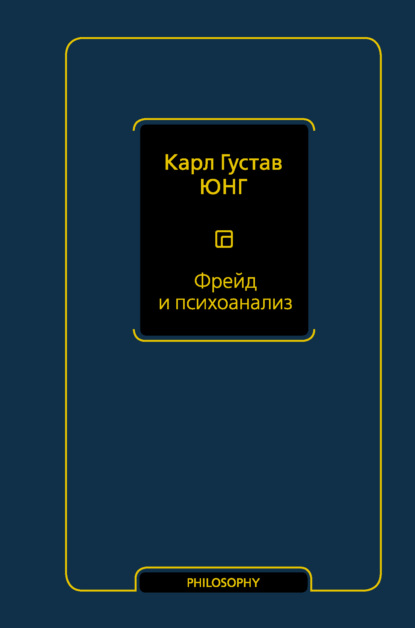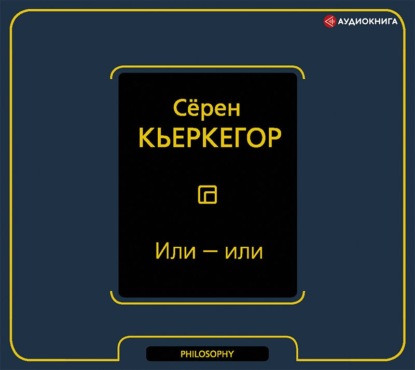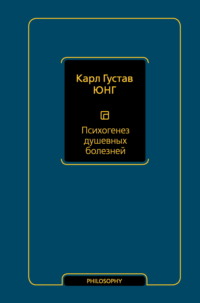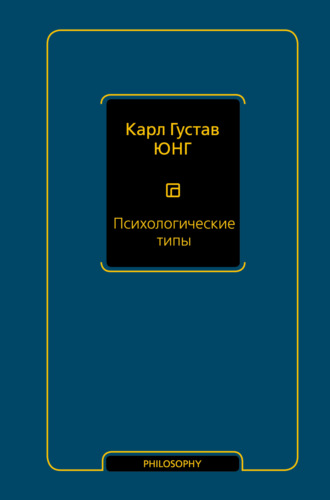
Полная версия
Психологические типы
14 В философии гностиков выделяются три типа, быть может, соответственно с тремя основными психологическими функциями – мышлением, чувством и ощущением. Мышлению можно сопоставить пневматиков (pneumatikoi), чувству – психиков (psychikoi), а ощущению – гиликов (hylikoi)[12]. Подчиненное положение психика соответствует духу гностицизма, который, в отличие от христианства, настаивал на исключительной ценности познания. Христианские принципы любви и веры очевидно призваны ослаблять познание. В христианстве пневматика поэтому не спешили бы ценить, поскольку он отличался бы лишь владением гнозисом, знанием.
15 На ум приходит еще долголетняя и ожесточенная борьба начальной церкви против учения гностиков (в этой борьбе тоже ощущалось различение типов). При несомненном преобладании практического направления в раннем христианстве человек-интеллектуал неизменно оставался в одиночестве, если только он не следовал своему боевому задору и не отдавался всецело апологетической полемике. Правило веры (Regula fidei[13]) было слишком строгим и не допускало никакого самостоятельного движения. Более того, оно не имело позитивного интеллектуального содержания. В нем заключалось мало мыслей, да и те были чрезвычайно ценными с практической точки зрения, но сковывали мышление. Человек мыслящий куда сильнее страдал от sacrificium intellectus[14], нежели человек чувствующий. Поэтому вполне понятно, что преимущественно интеллектуальные построения гностицизма (ценность которых для нашего современного умственного развития не только не утратилась, но даже значительно возросла), неудержимо привлекали интеллектуалов в лоне церкви. Для таких людей они являлись подлинным мирским соблазном. Особенно досаждал церкви докетизм[15], утверждавший, будто Христос обладал лишь видимостью плоти и что все Его земное существование и страдание тоже было видимостью. Это утверждение выдвигало мышление на передний план в ущерб человеческим чувствам.
16 Мы вправе сказать, что яснее всего олицетворяют борьбу с гнозисом две фигуры, значимые и как отцы церкви, и как самостоятельные личности. Речь идет о Тертуллиане и Оригене, которые жили в конце II века н. э. Шульц говорит о них так:
Один организм способен воспринимать питательное вещество почти без остатка и вполне его усваивать, а другой отторгает его обратно почти без остатка со всеми признаками страстного сопротивления. Столь же противоположно откликались на гнозис Ориген и Тертуллиан. Их реакции не только соответствовали характеру и миросозерцанию каждого, но и были предельно важны для оценки положения гнозиса в духовной жизни и религиозных течениях той эпохи[16].
17 Тертуллиан родился в Карфагене около 160 года н. э. Он был язычником и лет до тридцати пяти предавался чувственной жизни, царившей в его городе, а затем сделался христианином. Он был автором многочисленных сочинений, которые с несомненной ясностью обрисовывают его характер, главным образом нас интересующий. Особенно ярко выступает перед нами его беспримерно благородное рвение, священный огонь в его груди, страстный темперамент и глубокая проникновенность его религиозного понимания. Ради истины, однажды им признанной, он стал фанатиком, поистине односторонним, обладал выраженным боевым духом, был беспощаден к противникам и обретал победу лишь в полном поражении соперников. Его язык разил врага, точно меч, с жестоким мастерством. Он был создателем церковной латыни, что служила людям более тысячи лет. Именно он создал вдобавок терминологию ранней церкви. «Приняв какую-либо точку зрения, он последовательно двигался с нею до крайнего предела, словно гонимый сонмом бесов, даже тогда, когда правота давно забывалась и всякий разумный порядок лежал разбитым у его ног»[17]. Страстность его мышления была столь велика, что он постоянно отчуждал себя от того, чему раньше отдавался всеми фибрами души. Потому-то его этика выглядит до крайности суровой. Он предписывал искать мученичество, а не избегать страданий; не допускал второго брака и требовал, чтобы женщины постоянно скрывали свои лица. Против гнозиса, который есть тяга к мышлению и познанию, он боролся с фанатической беспощадностью, равно как и против философии и науки, в сущности мало отличавшихся от гнозиса. Тертуллиану приписывают тонкое признание: Credo quia absurdum est[18]. Исторически это не совсем верно – он сказал лишь: «Et mortuus est Dei protsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est»[19].
18 Вследствие остроты ума он понимал всю ничтожность философских и гностических построений, каковые с презрением отвергал. Взамен того он ссылался на свидетельства своего внутреннего мира, на внутренние факты, составляющие одно целое с его верой. Этим фактам он придавал зримые очертания и стал тем самым творцом умопостигаемых связей, по сей день лежащих в основе католического вероучения. Иррациональное внутреннее переживание обладало для него сущностной и динамической природой; это был для него принцип, основание для противопоставления миру, а также общепризнанным науке и философии. Приведу собственные слова Тертуллиана:
Я прибегаю к новому свидетельству, которое, впрочем, известнее всех сочинений, действеннее любого учения, доступнее любого издания; оно больше, чем весь человек, – хотя оно и составляет всего человека. Откройся нам, душа! Если ты божественна и вечна, как считает большинство философов, ты тем более не солжешь. Если ты не божественна в силу своей смертности (как представляется одному лишь Эпикуру), ты тем более не будешь лгать, – сошла ли ты с неба или возникла из земли, составилась ли из чисел или атомов. Начинаешься ли вместе с телом или входишь в него потом, – каким бы образом ты ни делала человека существом разумным, более всех способным к чувству и знанию. Я взываю к тебе, – но не к той, что изрыгает мудрость, воспитавшись в школах, изощрившись в библиотеках, напитавшись в академиях и аттических портиках. Я обращаюсь к тебе – простой, необразованной, грубой и невоспитанной, какова ты у людей, которые лишь тебя одну и имеют, к той, какова ты на улицах, на площадях и в мастерских ткачей. Мне нужна твоя неискушенность, ибо твоему ничтожному знанию никто не верит[20].
19 Самоизувечение Тертуллиана, совершенное путем sacrificium intellectus, привело его к открытому признанию иррационального внутреннего переживания, истинной основы его веры. Необходимость религиозного процесса, которую ощущал внутри себя, он выразил в непревзойденной формуле: Anima naturaliter Christiana[21]. Из-за sacrificium intellectus для него утратили всякое значение философия и наука, а следовательно, и гнозис. В дальнейшем течении жизни вышеописанные черты его характера стали выступать еще резче. Когда церковь вынужденно осознала необходимость идти на компромиссы в угоду большинству, Тертуллиан возмутился и сделался горячим приверженцем фригийского пророка Монтана – экстатика, призывавшего полностью отвергнуть все мирское и стремиться к безусловной одухотворенности[22]. В ожесточенных памфлетах Тертуллиан критиковал политику папы Каликста I[23] и очутился, таким образом, вместе с Монтаном более или менее extra ecclesiam[24]. По сообщению блаженного Августина, он впоследствии будто бы рассорился с монтанистами и основал собственную секту.
20 Перед нами классический образец интровертного мышления. Неоспоримый и необыкновенно проницательный ум соседствовал в Тертуллиане с очевидной чувственностью. Процесс психологического развития, который мы называем специфически христианским, привел его к жертве, к уничтожению наиболее ценного органа, к той мифической идее, что заключается и в великом символе жертвоприношения Сына Божьего. Самым ценным органом Тертуллиана был интеллект, суливший ясное познание. Вследствие sacrificium intellectus он сошел с пути к чисто интеллектуальному развитию и, по необходимости, вынужден был признать основой своего существа иррациональную динамику собственных душевных глубин. Он наверняка возненавидел гностический мир мысли и его специфически интеллектуальную оценку динамических душевных глубин, потому что таков был тот путь, который пришлось отринуть для того, чтобы признать принцип чувства.
21 Полной противоположностью Тертуллиану является Ориген. Он родился в Александрии около 185 года н. э. Его отец был христианским мучеником, а сам он вырос в совершенно своеобразной духовной атмосфере, в которой переплетались и сливались воедино мысли Востока и Запада. С большой любознательностью он усваивал все, достойное изучения, и воспринимал совокупность неисчерпаемого александрийского мира идей – христианских, иудейских, эллинистических и египетских. Он с успехом выступал в качестве учителя в школе катехизаторов. Языческий философ Порфирий, ученик Плотина, так отзывался о нем: «Войдя в разум и познакомившись с философией, он перешел к образу жизни, согласному с законами. Ориген – эллин, воспитанный на эллинской науке, – споткнулся об это варварское безрассудство, разменял на мелочи и себя, и свои способности к науке»[25].
22 Еще до 211 года состоялось самооскопление Оригена, о внутренних мотивах которого можно лишь догадываться – исторически они неизвестны. Как личность он пользовался большим влиянием, речь его очаровывала. Он был постоянно окружен учениками и целой толпой стенографов, ловивших драгоценные слова, что слетали с уст почитаемого учителя. Ориген известен как автор многочисленных сочинений и отменный наставник. В Антиохии он даже читал лекции по богословию матери императора Маммее[26]. В Кесарии он возглавлял школу. Его преподавательская деятельность многократно прерывалась далекими путешествиями. Он обладал необыкновенной ученостью и изумительной способностью тщательного исследования, отыскивал древние библейские рукописи и приобрел заслуженную известность своим разбором и критикой древних текстов. «Он был великим ученым, единственным истинным ученым в древней церкви», – говорит о нем Гарнак[27]. В противоположность Тертуллиану Ориген не отвергал влияния гностицизма – напротив, он даже ввел это учение, пусть и в смягченной форме, в лоно церкви (по крайней мере, таково было его стремление). Можно даже сказать, что по своему мышлению и основным воззрениям он сам был христианским гностиком. Его отношение к вере и знанию Гарнак определяет следующими психологически важными словами:
Незыблемое, неизменное добро – это божество со всей полнотой своих излучений; временно низведенное в материю небесное добро – это дух человеческий; возвышенная сила, освобождающая его, – это Христос. Евангельская история не есть история Христа, а собрание аллегорических изложений великой истории Бога-мира. У Христа на деле и нет истории; Его появление в этом мире запутанности и затмения составляет Его деяние, а результаты этого деяния – познание духом самого себя. Познание это – сама жизнь. Но оно зависит от воздержания и от подчинения основанным Христом мистериям, в которые человек принимается в общение с praesens numen[28] и которые таинственным образом завершают процесс очищения духа от чувственности. В этом очищении следует принимать и активное участие; поэтому воздержание – главное требование. Таким образом, христианство – спекулятивная философия, освобождающая дух («познание спасения») просвещением и освящением его и направляющая его к достойной жизни[29] (amor et visio[30]).
23 Богословие Оригена, в отличие от богословия Тертуллиана, было по своей сути философским и вполне укладывалось в рамки философии неоплатонизма. В Оригене мы видим мирное и гармоничное слияние и взаимопроникновение двух сил – греческой философии и гностицизма, с одной стороны, и мира христианских идей – с другой. Но такая широкая и дерзкая терпимость и справедливость навлекли на Оригена осуждение церкви. Впрочем, окончательный приговор ему вынесли только после смерти, наступившей от последствий истязаний и пыток: старца Оригена пытали во времена гонения на христиан при императоре Деции. В 399 году папа Анастасий I всенародно предал его анафеме, а в 543 году лжеучение Оригена прокляли на соборе, созванном Юстинианом[31]; это проклятие неизменно подтверждалось на позднейших церковных соборах.
24 Ориген – классический образец экстравертного типа. Его основное внимание направлено на объект, это явствует как из добросовестного изучения объективных фактов и условий, их вызывающих, так и из формулировки верховного принципа – amor et visio Dei. Христианство на пути своего развития встретилось в лице Оригена с таким типом, первоосновой которого является отношение к объектам; символически это отношение искони выражалось в сексуальности, вот почему некоторые нынешние теории все существенные психические функции сводят к сексуальности. Кастрация, следовательно, является надлежащим выражением жертвы, когда расстаются с важнейшей функцией. В высшей степени показательно, что Тертуллиан совершил sacrificium intellectus, тогда как Ориген довольствовался sacrificum phalli[32]: христианский процесс требует полного уничтожения чувственной привязанности к объекту – иными словами, требует пожертвовать наиболее ценной функцией, ценнейшим имуществом, наиболее сильным влечением. С биологической точки зрения жертва приносится во имя спокойствия; психологически же она расторгает старые связи во имя новых возможностей духовного развития.
25 Тертуллиан пожертвовал интеллектом, потому что именно интеллект особенно сильно привязывал его к мирскому. Он боролся с гностицизмом, потому что учение гностиков олицетворяло в его глазах ложный путь в интеллектуальность, подразумевавшую также и чувственность. Соответственно с этим фактом мы видим, что гностицизм разветвился в двух направлениях: гностики одного направления стремились к чрезмерной одухотворенности, а сторонники другого направления погрязли в этическом анархизме, в абсолютном либертинаже[33], который не стыдился ни единой формы разврата, ни даже самой отвратительной извращенности и бесстыдной разнузданности. Бытовало разделение на энкратитов (воздержанных), с одной стороны, и на антитактов и антиномистов (противников порядка и законности) – с другой; последние грешили, так сказать, из принципа и предавались разнузданному распутству умышленно. К их числу принадлежали николаиты, архонтики и прочие, равно как и метко прозванные борбориты[34]. Сколь тесно соприкасались мнимые различия, видно на примере архонтиков, среди которых одна и та же секта распадалась на энкратиков и антиномистов, причем оба направления действовали логично и последовательно. Кто желает узнать возможные этические последствия смелого и широкого интеллектуализма, пусть изучит историю гностических нравов. Тогда sacrificium intellectus как средство станет намного понятнее. Эти люди были последовательны не только в теории, но и на практике и изживали до последних пределов абсурда все измышления своего интеллекта.
26 Ориген пожертвовал чувственной связанностью с миром и ради этой жертвы оскопил самого себя. Для него специфической угрозой был не интеллект, а чувство и ощущение, через которые устанавливалась связь с объектом. Кастрацией он избавил себя от чувственности, присущей гностицизму, и потому без страха предался очарованию гностического мышления. А Тертуллиан пожертвовал интеллектом и отвернулся от гнозиса, но тем самым достиг такой глубины религиозного чувства, какую тщетно искать у Оригена. Шульц говорит о Тертуллиане: «Оригена он превосходил хотя бы в том, что проживал каждое свое слово в сокровеннейших недрах души; его увлекал не рассудок, как другого, а сердечный порыв. С другой стороны, он уступал Оригену в том, что, будучи самым страстным среди всех мыслителей, доходил чуть ли не до отрицания всякого знания, а свою борьбу с гнозисом превращал едва ли не в борьбу с человеческой мыслью вообще»[35].
27 Мы видим здесь, что в процессе развития христианства самая сущность первоначального типа становится своей противоположностью: Тертуллиан, глубокий мыслитель, делается человеком чувства; Ориген же становится ученым и всецело теряет себя в интеллектуальности. Нетрудно, конечно, логически все перевернуть и заявить, что Тертуллиан исходно был человеком чувства, а Ориген – человеком мысли. Но такой разворот вовсе не отменяет сам факт типического различия и отнюдь не объясняет, почему Тертуллиан видел своего опаснейшего врага в области мысли, а Ориген – в области сексуальности. Да, можно сказать, что они оба ошибались, и сослаться в качестве довода на роковую неудачу, к которой в конечном счете свелась жизнь обоих. Но тогда пришлось бы допустить, что каждый пожертвовал тем, что ему было наименее дорого, то есть некоторым образом совершил обманную сделку с судьбой. Тут есть некое основание, которое видится весомым. Ведь известно, что даже среди первобытных людей встречаются хитрецы, которые, подходя к своему фетишу с черной курицей под мышкой, говорят: «Гляди, я приношу тебе в жертву прекрасную черную свинью!» Однако мое мнение таково, что объяснение, которое во что бы то ни стало норовит обесценить какой-либо важный факт, не всегда и не при всех обстоятельствах бывает верным, даже если оно кажется нам вполне «биологическим». Из тех подробностей, что история сохранила для нас в отношении этих двух великих представителей человеческого духа, мы должны заключить следующее: в своей жизни они были предельно честны, их обращение в христианство было истинным, и тут не приходится говорить о хитрой проделке или об обмане.
28 Мы не слишком отвлечемся от следования по выбранному пути, если на примере настоящего случая попробуем вообразить то психологическое значение, какое имеет нарушение естественного потока наших влечений – в данном случае со стороны христианского процесса жертвования. Из сказанного выше очевидно, что обращение является одновременно переходом на иную установку. Это становится ясным и по происхождению того главного мотива, который привел к обращению; еще выясняется, насколько Тертуллиан был прав, заявляя, что душа – naturaliter Christiana. Естественные влечения следуют, как и все в природе, линии наименьшей затраты сил. Но бывает так, что один человек обладает заметными способностями в одной области, а другой человек – в другой. Или же случается, что приспосабливание к окружающей среде в детстве требует то большей сдержанности и вдумчивости, то большего сочувствия и соучастия, смотря по тому, каковы родители ребенка и обстоятельства его жизни. Так автоматически формируется предпочтительная установка, благодаря которой и образуются различные типы. Поскольку каждый человек, будучи относительно устойчивым существом, обладает всеми основными психологическими функциями, то для полного приспосабливания психологически необходимо их равномерно применять. Должна же быть какая-то причина для существования различных способов психологического приспосабливания, и ясно, что недостаточно всего одного пути, потому что объект, воспринятый, например, только мыслью или только чувством, будет постигнут лишь отчасти. При односторонней (типической) установке возникает неполнота психологического приспосабливания, которая на протяжении жизни все возрастает, пока рано или поздно не нарушается сама способность к приспосабливанию, что толкает субъекта на поиски компенсации. Правда, компенсация достигается лишь посредством устранения той установки, что господствовала до сих пор. Эта жертва оборачивается временным накоплением энергии и переполнением каналов, сознательно еще не использованных, но бессознательно уже подготовленных. Неполнота приспосабливания, causa efficiens[36] для процесса обращения, субъективно ощущается как смутная неудовлетворенность. Именно так обстояло дело в самом начале нашего летосчисления. Необычайная потребность в искуплении овладела человечеством и привела к неслыханному доселе расцвету всех возможных и невозможных религиозных культов в Древнем Риме. Там не было недостатка и в ранних сторонниках теории «проживания жизни» (Auslebetheorie[37]), которые вместо биологических доводов ссылались на данные науки тех времен. Они тоже при этом изощрялись в умозрительных догадках о том, почему человеку живется плохо; однако каузализм той эпохи был несколько шире каузализма нашей современной науки: тогда искали причины не только в детстве, но и в космогонии, измышляли самые разнообразные системы в доказательство событий на заре человечества – мол, вот причины невыносимых людских страданий.
29 Жертвы, принесенные Тертуллианом и Оригеном, были, на наш вкус, чрезмерными, но они, безусловно, соответствовали духу времени, духу полной конкретности. В согласии с этим духом гностики принимали собственные видения за саму реальность или, по крайней мере, за нечто, прямо к ней относящееся; потому-то для Тертуллиана реальность внутреннего чувства была объективно значимой. Гностики проецировали субъективное внутреннее восприятие смены установки в виде космогонической системы и верили в объективную реальность ее психологических образов.
30 В своей работе «Метаморфозы и символы либидо»[38] я оставил открытым вопрос об источнике особого направления либидо в христианском вероучении. В той же работе я рассуждал о расщеплении либидо на две половины, направленные друг против друга. Объясняется это односторонностью психологической установки, столь обширной, что компенсация из недр бессознательного становится насущной необходимостью. Гностическое движение в первые века Новой эры особенно ярко обозначило роль бессознательных содержаний в миг получения компенсации. Само христианство знаменует в известном смысле разрушение и жертвоприношение античных культурных ценностей, то есть классической установки. Вряд ли нужно доказывать сегодня, что совершенно безразлично, обсуждаем ли мы текущие события или то, что было 2000 лет назад.
2. Богословские споры в раннехристианской церкви
31 Совсем не исключено, что мы отыщем противопоставление типов и в истории ересей и расколов в столь богатой спорами церкви ранних христиан. Эбиониты, или иудействующие христиане[39] (тождественные, быть может, с первыми христианами вообще), веровали в исключительно человеческую природу Христа и считали его сыном Марии и Иосифа, лишь впоследствии получившим посвящение через Духа Святого. В этом они совершенно противоположны докетистам, и следствия этого противостояния продолжали ощущаться еще долгое время спустя. Конфликт снова вышел на поверхность, пусть в измененной форме, около 320 года вместе с арианской ересью, которую можно назвать доктринальным спором с важными церковно-политическими последствиями. Арий отрицал завет ортодоксальной церкви о том, что Христос τώ Πατρί όµοούσιος (равный Отцу), и заявлял, что правильно считать его τώ Πατρί όµοούσιος (сходным с Отцом). При более внимательном изучении истории великого арианского спора об омоусии и омойусии (единосущие Христа с Богом и подобие Христа Богу) станет ясно, что омойусия носит отпечаток более чувственный, более доступный человеческому восприятию, в отличие от чисто умозрительной и абстрактной точки зрения омоусии. Да и восстание монофизитов (утверждавших абсолютное единство естества Христова) против диофизитской формулы, одобренной на Халкедонском вселенском соборе (о неделимой целости двух естеств в Иисусе, о слиянии человеческого и божественного естества в одном теле), можно, опять-таки, трактовать как противопоставление абстрактного и невообразимого чувственному натурализму диофизитов.
32 Вместе с тем становится поразительно ясным, что в арианском движении и в споре между монофизитами и диофизитами догматические препирательства были важны лишь для тех умов, которые первоначально ими занялись, но отнюдь не для многочисленной массы, которая тоже принимала участие в спорах. Столь щекотливый вопрос даже в те времена не мог служить побудительной силой для масс, ибо те откликались, скорее, на проблемы политической власти, ничего общего не имевшие с богословскими разногласиями. Если различение типов тут вообще имело хоть какое-то значение, то лишь постольку, поскольку оно позволяло вводить в употребление броские призывы, облекавшие грубые инстинкты толпы в красивую обертку. Но отсюда вовсе не следует, что для тех, кто развязал этот спор, вопрос о гомоусии и гомойусии был второстепенным. За этим спором скрывалось историческое и психологическое различие между верованием эбионитов в Христа как сугубого человека с относительной (мнимой) божественностью и верованием докетов в сугубого Бога-Христа, обладающего лишь видимостью плоти. А под этим слоем прятался более глубокий психологический раскол: одна сторона придавала главную ценность и главное значение всему, что воспринимается чувственно и субъектом чего – хотя и не всегда – является человеческое и личностное или, по крайней мере, спроецированное человеческое ощущение; другая же сторона возвышала абстрактное и внечеловеческое, где субъект – это функция, то есть восхваляла объективный естественный процесс, протекающий согласно безличным законам, по ту сторону человеческих ощущений и как их фактическая основа. Первая точка зрения жертвовала единичной функцией в пользу функционального комплекса, воплощенного в человеке, тогда как вторая пренебрегала человеком как неизбежным субъектом в пользу единичной функции. При этом сторонники обеих точек зрения отрицали то, в чем их противники усматривали главную ценность. Чем решительнее приверженцы обоих взглядов отождествляли себя со своими убеждениями, тем сильнее они старались – быть может, с наилучшими намерениями – взаимно навязать друг другу свое мнение, подвергая поруганию ценности противников.