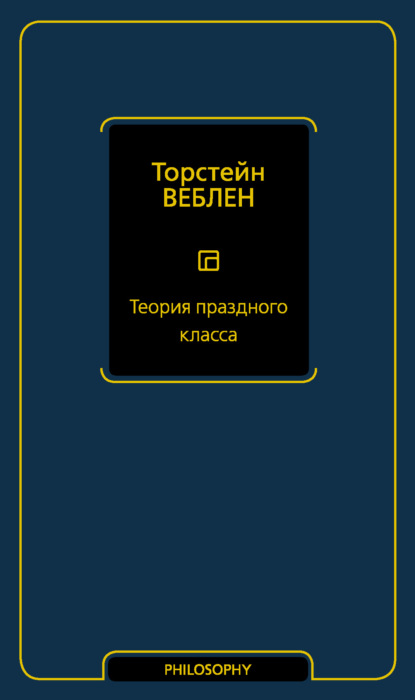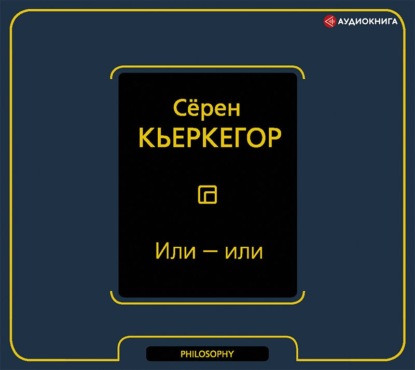Полная версия
Психологические типы
33 Другим проявлением конфликта выступает, насколько можно судить, пелагианский раскол[40] начала V столетия. Тертуллиан глубоко прочувствовал внутренний опыт, по которому человек подвержен греху, даже окрестившись; это ощущение было присуще и Августину, у которого вообще много общего с Тертуллианом и который выдвинул предельно пессимистическое учение о первородном грехе: мы все унаследовали от Адама concupiscentia[41]. Этому первородному греху Августин противопоставлял искупляющую силу Божьей благодати, а заведует средствами искупления созданная попущением Господа церковь. При таком понимании ценность человеческой личности низводится до минимума. Человек, в сущности, оказывается просто-напросто жалким и порочным существом, обреченным сделаться добычей дьявола, если его не спасет Божья благодать при посредстве искупительной силы церкви. Тем самым уничтожалась не только ценность личность, но также нравственная свобода и самоопределение человека, а одновременно возрастали ценность и значимость церкви, что вполне соответствует программе августиновского «Civitas Dei»[42].
34 Против столь гнетущего понимания человеческой участи снова и снова восставали порыв к свободе и ощущение нравственной ценности человека – ощущение, которое было не заглушить надолго даже самым глубоким размышлением и самой строгой логикой. Правоту этого ощущения постарались доказать британский монах Пелагий и его ученик Целестин. Их учение опиралось на признание нравственной свободы человека как данности. Показателем психологического родства пелагианской и диофизитской точек зрения является то обстоятельство, что преследуемых сторонников Пелагия привечал Несторий, митрополит Константинопольский. Несторий настаивал на разделении двух естеств в Христе, в противоположность учению святителя Кирилла Иерусалимского о единосущии Христа как богочеловека (χριστοτόκος). Еще Несторий отказывался считать Деву Марию богородицей (Θεοτόκος) и признавал в ней лишь христородицу (Θεοδόχος). Отчасти обоснованно он видел в почитании Марии как Богоматери следы язычества. От этих прений пошел несторианский спор, который в конце концов привел к расколу и отпадению несторианской церкви.
3. Проблема пресуществления
35 Все эти споры закончились вместе с великими политическими потрясениями – падением Римской империи и гибелью античной цивилизации. Но когда, несколько веков спустя, в мире вновь наступило некоторое спокойствие, характерные психологические различия понемногу начали вновь проявляться, на первых порах робко, а затем все увереннее по мере развития культуры. Правда, треволнения ранних христиан успели забыться; им на смену пришли новые формы, но под теми скрывалась все та же психология.
36 В середине IX века монастырский настоятель Пасхазий Радберт обнародовал свое сочинение, в котором отстаивалось учение о пресуществлении, гласящее, что во время причастия вино и хлеб превращаются в истинную кровь и плоть Христовы. Хорошо известно, что это учение стало догматом, по которому превращение совершается «vere, realiter, substantialiter» (истинно, в действительности, субстанциально), то есть accidentia[43] (хлеб и вино) сохраняют привычный вид, но в сущности своей они становятся подлинными плотью и кровью Христа. Против такой крайней конкретизации символа дерзнул выступить монах по имени Ратрамн из того же монастыря, настоятелем которого был Радберт. А самым решительным противником Радберта оказался Скот Эриугена, великий философ и смелый мыслитель начала Средних веков, который, по словам Газе, автора «Истории церкви», возвышался одиноко над своим временем, и проклятие церкви настигло его лишь несколько столетий спустя, в XIII веке[44]. В бытность настоятелем в Мальмсбери он был убит своими же монахами (ок. 889 г.). Скот Эриугена, для которого истинная философия выступала истинной религией, не был слепым последователем авторитета и положений, раз и навсегда установленных; в отличие от большинства своих современников, он умел мыслить самостоятельно. Разум он ставил выше авторитета, что было, наверное, неразумно, однако обеспечило ему признание у потомков. Даже авторитет отцов церкви, стоявших вне всякой критики, он признавал лишь постольку, поскольку в их сочинениях отыскивались крупицы сокровищ человеческого разума. Он утверждал, что причастие есть не что иное, как воспоминание о последней вечере Иисуса с учениками; с этим толкованием, полагаю, согласится всякий разумный человек. Но при всей ясности и человеческой простоте воззрений мыслителя, притом что он вовсе не умалял смысл и ценность священного обряда, Эриугена не сумел «вжиться» в дух своего времени, не сумел проникнуться желаниями мира вокруг, доказательством чего может послужить гибель от рук собственных товарищей. Он не имел успеха как раз потому, что мыслил последовательно и рационально, зато успех выпал на долю Радберта, который не умел мыслить, но исхитрился «пресуществить» символическое и значимое, сделать его грубым и чувственно осязаемым – именно потому, что чувствовал дух своего времени, жаждавший конкретизации религиозных переживаний.
37 Опять-таки, в этом споре нетрудно разглядеть те основные элементы, с которыми мы уже встречались в спорах, разобранных ранее: с одной стороны, абстрактная точка зрения, отвергающая смешение с конкретным объектом; с другой стороны, конкретизация, направленная на объект.
38 Мы ничуть не намерены осуждать, исходя из интеллектуального посыла, деятельность Радберта и односторонне обесценивать его личность. Да, современному уму препирательства вокруг этого догмата кажутся по-настоящему нелепыми, но отнюдь не следует отнимать у них всякую историческую ценность. В нем, разумеется, в избытке собрались всевозможные человеческие заблуждения, однако это не доказывает eo ipso[45] его малоценности. Прежде чем выносить суждение, нужно тщательно изучить воздействие этого догмата на религиозную жизнь той поры и постараться выяснить, чем наше время косвенно ему обязано. Нельзя упускать из виду, в частности, что именно вера в чудо требует отчуждения психического процесса от чувственного познания, причем отчуждение неизбежно сказывается на характере психического процесса. Направленное мышление становится положительно невозможным, если чувственное ценится слишком высоко. Приобретая чрезмерную ценность, оно мгновенно вторгается в психику, разрывая и разрушая функцию направленного мышления, которая подразумевает исключение всего несовместимого. Это простое рассуждение отражает практический смысл догматов и обрядов: они доказывают свою пользу не только с рассмотренной точки зрения, но и исходя из чисто приспособленческих «биологических» взглядов, не говоря уже о непосредственном, специфически религиозном воздействии на отдельного человека веры в этот догмат. При всем уважении к заслугам Скота Эриугены мы не вправе обесценивать деятельность Радберта. На этом примере следует усвоить, что мышление интроверта и мышление экстраверта нельзя мерить одним мерилом; обе формы мышления по отношению к своим целям принципиально различны. Можно даже сказать, что у человека интровертного мышление рационально, тогда как у экстраверта оно запрограммировано.
39 Эти мои размышления не должны, на чем я особенно настаиваю, служить окончательными выводами относительно индивидуальной психологии обоих фигур. То малое, что мы знаем о личности Скота Эриугены, не позволяет поставить ему верный «типический» диагноз; впрочем, можно предполагать, что он принадлежал к интровертному типу. О Радберте тоже почти ничего неизвестно. Мы лишь знаем, что он утверждал нечто, противоречившее обыденному мышлению; при этом, следуя логике чувства, он осознал потребности своего времени и высказал то, что сумели принять его современники. Этот факт указывает, скорее, на экстравертный тип. Ввиду недостатка иных сведений мы все же вынуждены отказаться от вынесения суждений, тем паче что все могло обстоять совершенно иначе, особенно по отношению к Радберту. В конце концов есть все основания полагать, что он принадлежал к интровертному типу, но мыслил скованно и не поднимался выше своего окружения, обладал логикой, лишенной оригинальности, и был способен выводить только элементарные умозаключения из готовых предпосылок в сочинениях отцов церкви. Напротив, Скот Эриугена мог бы принадлежать к экстравертному типу, будь у нас доказательства, что его окружала среда, сама по себе наделенная common sense[46] и потому воспринимавшая его утверждения как нечто подходящее и желаемое. Но таких доказательств не имеется. С другой стороны, мы знаем, сколь велика была в те времена жажда религиозного чуда. В этих условиях воззрения Скота Эриугены должны были казаться холодными и мертвящими, а вот мнение Радберта, напротив, производило наверняка животворящее впечатление, ибо оно конкретизировало желание каждого человека.
4. Номинализм и реализм
40 Спор о причастии, волновавший умы в IX веке, был первым признаком грядущей схватки, что разъединила людей на много веков и таила в себе исходно необозримые последствия. Речь идет о непримиримом конфликте между номинализмом и реализмом. Под номинализмом понимали мнение, что так называемые универсалии, то есть родовые или общие понятия, например красота, добро, животное, человек, суть не что иное, как nomina (имена), выражаясь иронически, flatus vocis[47]. Анатоль Франс говорит: «Что такое мышление? И как оно происходит? Мы мыслим словами; уже это само по себе – явление чувственное и возвращает нас к природе. Подумайте только: для построения теории об устройстве мироздания метафизик не располагает ничем, кроме усовершенствованного крика обезьян и собак»[48]. Вот крайний номинализм; в такую же крайность впадает Ницше, толкуя разум как «метафизику речи».
41 Реализм, напротив, утверждает существование universalia ante rem[49] и говорит, что общие понятия существуют как бы сами по себе, подобно платоновским идеям. Несмотря на очевидную близость к церковным догматам, номинализм привержен скептицизму, – он стремится отрицать обособленное существование, якобы свойственное абстрактным понятиям. Номинализм представляет собой в некотором роде научный скептицизм внутри самой косной догматики. Его понимание реальности неизбежно совпадает с чувственной реальностью мира, где индивидуальность отдельной вещи реальна в противопоставлении абстрактной идее. Строгий же реализм, наоборот, сосредоточивается на абстракциях, на идеях, на универсалиях, которые предшествуют (ante rem) вещам.
а) Проблема универсалий в античном мире42 Как показывает ссылка на платоновское учение об идеях, корни конфликта следует искать в далеком прошлом. Несколько ядовитых выпадов у Платона (в частности: «Если не будешь особенно заботиться о словах, то к старости обогатишься умом» и «люди якобы изысканного ума»[50]) обращены к представителям двух родственных философских школ, отвергавших платоновский дух; имеются в виду киники и мегарцы. Вожак первой школы, Антисфен, отнюдь не чуждый сократовскому способу мышления и даже друг Ксенофонта, глубоко враждебно воспринимал прекрасный платоновский мир идей. Он даже составил памфлет против Платона, где непристойно переделал его имя в слово Σάυψν, означающее «подросток» или «мужчина», но в сексуальном отношении, так как слово σάυψν происходит от слова σάυη со значением penis; тем самым Антисфен, прибегая к проверенной временем проекции, исподволь намекал, чьи интересы он защищает, выступая против Платона. Мы видели, что для христианина Оригена такова была своего рода первооснова, олицетворявшая дьявола: пытаясь справиться с бесовским искушением, он оскопил себя, после чего беспрепятственно проник в пышный мир идей. Антисфен жил в дохристианскую эпоху, был язычником, и для него все то, чему фаллос искони служил символом (чувственное ощущение), было близко сердцу; это справедливо не только для самого Антисфена, но и для всей кинической школы, которая провозглашала необходимость возвратиться к природе. Можно выявить, пожалуй, целый ряд причин, по которым конкретное чувство и ощущение выдвигались у Антисфена на передний план: он был пролетарием (Proletarier)[51] и потому возводил свою зависть в добродетель; кроме того, он не был ίδαγενήσ, то есть чистокровным греком, а принадлежал к числу «пришлых». Он и преподавал за стенами Афин, причем, как подобало философу-кинику, щеголял своим пролетарским поведением. Вся его школа состояла из пролетариев или, по крайней мере, из людей «с периферии», что изощрялись в едкой критике традиционных ценностей.
43 Одним из наиболее выдающихся после Антисфена представителей этой школы был Диоген, именовавший себя Kyon («пес»); на его гробнице высечена в паросском мраморе собака. Он отличался горячей любовью к человеку, всем своим естеством стремился понимать людей, однако беспощадно высмеивал все то, что чтили как святыни его современники. Он потешался над страхами зрителей в театре, когда показывали трапезу Фиеста[52] или повествовали о кровосмесительной трагедии Эдипа; мол, в антропофагии нет ничего дурного, ибо человеческая плоть вовсе не занимает особого положения среди мяса других животных, а в кровосмесительной связи нет беды, чему поучительным примером могут послужить наши домашние животные. Мегарская школа во многом была родственной школе киников. Вспомним, что Мегара – неудачливая соперница Афин. На заре своих дней она обещала много, основала Византий и вторую Мегару (Гиблейскую) на Сицилии, но начались внутренние раздоры, из-за которых Мегара быстро дошла до полного упадка, уступив Афинам во всех отношениях. Грубые крестьянские шутки получили в Афинах прозвище «мегарских острот». Именно зависть побежденных, впитанная с молоком матери, объясняет множество характерных черт мегарской философии. Эта философия, как и философия киников, отличалась крайним номинализмом и была прямо противоположной реализму идей у Платона.
44 Другим выдающимся представителем этой школы был Стильпон Мегарский, о котором рассказывают следующую показательную историю: однажды, увидев на Акрополе в Афинах дивное изваяние Паллады – творение Фидия, – он в чисто мегарском духе заявил, что это, дескать, дочь не Зевса, а Фидия. Эта шутка прекрасно передает суть мегарского мышления. Стильпон учил, что родовые понятия лишены реальности и объективной значимости; потому, если кто говорит о «человеке», то он говорит ни о ком, ибо не указывает οὔτε τόνου οὔτε τόνοε (ни того ни другого). Плутарх[53] приписывает Стильпону изречение «ἕτέρου ἑτέρου µή χατηγορεῖςυ», то есть «ничто не может подтвердить сути другого». Приблизительно тому же учил и Антисфен. А старейшим глашатаем такого способа мышления был, по-видимому, Антифон из Рамнунта, софист и современник Сократа; одно из дошедших до нас его изречений гласит: «Познающий некие длинные предметы не может видеть длину глазами, ни познавать ее духом»[54]. Из этого изречения ясно проистекает полное отрицание субстанциальности за родовыми понятиями. Тем самым платоновские идеи лишаются своей первоосновы, ибо для Платона именно идеи обладали незыблемой значимостью, тогда как «действительное» и «множественное» было всего-навсего преходящими их отражениями. Критика киников и мегарцев с точки зрения реализма разлагала родовые понятия на чисто казуистические и описательные nomina, устраняя всякую субстанциальность и сосредоточивая внимание на индивидуальности.
45 Эту очевидную исходную противоположность мнений Гомперц трактует как проблему свойства (Inhärenz) и предикации[55]. Когда, например, говорят о «теплом» или «холодном», то подразумевают «теплые» и «холодные» предметы, к которым слова «теплое» и «холодное» относятся как атрибуты, предикаты, утверждения. Тут имеется в виду нечто воспринимаемое и фактически существующее, некое теплое или холодное тело. Из множества сходных примеров мы выделяем понятия «тепла» и «холода», одновременно связывая их мысленно с чем-то вещным, жизнеподобным. Так «тепло», «холод» и прочее воображаются как овеществленные – из-за отголоска чувственного восприятия в абстракции. Да, очень трудно отделить эту овеществленность от абстракции, поскольку она присуща всякому телу и в этом смысле дана, собственно говоря, априори. Восходя к следующему по степени родовому понятию «температура», мы по-прежнему без труда воспринимаем вещность, которая, даже утратив свою чувственную определенность, сохраняет вообразимость, свойственную любому чувственному восприятию. Поднимаясь далее по списку родовых понятий, мы доходим до «энергии», и на этом уровне овеществленность пропадает, а с нею заодно исчезает, пусть не до конца, и свойство вообразимости. Тут возникает конфликт по поводу «природы» энергии: встает вопрос, является ли «энергия» понятием чисто умопостигаемым и абстрактным или же это нечто «действительное». Ученый номиналист наших дней убежден в том, что «энергия» – лишь имя, лишь «пункт» нашего умственного исчисления, однако в повседневной речи слово «энергия» употребляется как обозначение чего-то вещественного, внося в человеческие умы величайшую теоретико-познавательную путаницу.
46 Вещественность в мире чистой мысли, совершенно естественно проникающая в процесс абстрагирования и убеждающая в «реальности» предиката или абстрактной идеи, ни в коей мере не является искусственным продуктом или произвольным гипостазированием; нет, это естественная и насущная необходимость. Дело вовсе не в том, что абстрактная мысль сначала произвольно гипостазируется и затем переносится в потусторонний, столь же искусственный мир; исторически все обстоит как раз наоборот. Среди первобытных людей, к примеру, imago, или психическое отображение чувственных ощущений, столь сильно и столь ярко окрашено чувственным элементом, что, когда воспроизводится в виде непроизвольных образов воспоминаний, оно порой приобретает свойства галлюцинации. Поэтому первобытный человек, вспоминая свою умершую мать, спонтанно как бы видит и слышит ее дух. Мы сами лишь «думаем» об умерших, тогда как первобытный человек воспринимает их фактически, вследствие крайней чувственности духовных образов. Отсюда объясняются первобытные верования в духов; последние суть не что иное, как то, что мы называем мыслями. Когда дикарь «мыслит», его посещают видения, реальность которых так велика, что он постоянно принимает психическое за действительное. По словам Пауэлла, «путать все на свете – отличительная особенность дикаря, который не отличает объективное от субъективного»[56]. Спенсер и Гиллен говорят: «То, что дикарь испытывает во сне, для него не менее реально, чем наблюдаемое наяву»[57]. Эти замечания вполне подтверждаются моими собственными наблюдениями над психологией негров[58]. Из этого основного факта психического реализма и самостоятельности образа в противоположность самостоятельности чувственных восприятий и проистекает вера в духов; нет нужды усматривать ее источник в потребности со стороны дикаря объяснять мир (эту потребность неправильно приписывают ему европейцы). Для первобытного человека мысль зрима и слышима, а потому носит также и характер откровений. Вот почему колдун, ясновидящий, всегда бывает и главным мыслителем племени, посредником между богами и людьми; отсюда же исходит и магическая сила мысли: вследствие своей реальности она равнозначна поступку. Да и слово, внешняя оболочка мысли, оказывает «реальное» воздействие, вызывая в сознании «реальные» образы-воспоминания. Примитивные суеверия нас удивляют, но только потому, что мы сумели избавить психический образ от чувственности, научились мыслить «абстрактно» – разумеется, с вышеупомянутыми ограничениями. Но всем, кто практикует аналитическую психологию, известно, что даже образованным пациентам-европейцам приходится постоянно напоминать: мысль и дело – вовсе не одно и то же; кому-то приходится это внушать, ибо пациент считает, что достаточно просто подумать о чем-либо, а кому-то другому лишний раз о том повторять, ибо он думает, что нельзя ни о чем помышлять, иначе мысль насильственно повлечет за собой действие.
47 Сколь легко восстанавливается исходная реальность психического образа, видно на примерах сновидений у нормальных людей и тех галлюцинаций, что сопровождают утрату душевного равновесия. Мистики норовят даже заново обрести примитивную реальность imago посредством искусственной интроверсии, необходимой как противовес экстраверсии. Ярким примером здесь может служить инициация магометанского мистика Таваккуль-бега под наставничеством Молла-шаха[59]. Таваккуль-бег рассказывает:
После таких слов он [Молла-шах] велел мне сесть напротив себя, а все мои чувства пребывали в смятении, и распорядился, чтобы я воспроизвел внутри меня его собственный образ; потом он завязал мне глаза и потребовал сосредоточить все душевные силы в моем сердце. Я повиновался, и в мгновение ока сердце мое раскрылось по милости Всевышнего и благодаря духовной поддержке шейха. Я узрел внутри себя нечто, подобное опрокинутому кубку, а когда поставил его верно, все мое естество преисполнилось чувством беспредельного блаженства. Тогда я сказал Учителю: «Из своей клетки, сидя пред тобою, я вижу внутри себя точное отображение, и кажется мне, словно другой Таваккуль-бег сидит перед другим Молла-шахом».
Учитель истолковал это видение как первый признак посвящения. Вскоре последовали другие видения, стоило лишь открыть дорогу к исходному образу реальности.
48 Подлинность предиката задается априори, ибо она от века заложена в человеческом разуме. Лишь последующая критика лишает абстракцию характера реальности. Еще во времена Платона вера в магическую реальность словесного понятия была столь велика, что философы изощрялись в измышлении таких умозаключений, которые посредством абсолютного значения слов вынуждали давать нелепые ответы. Простым примером может послужить enkekalymmenos (покрытый), или загадка, придуманная мегарцем Евбулидом. Текст гласит: «Способен ты узнать своего отца? – Да. – А узнаешь ли ты вот этого покрытого человека? – Нет. – Ты сам себе противоречишь, ведь этот покрытый человек и есть твой отец. Значит, ты можешь и узнать своего отца и вместе с тем его не узнаешь». Заблуждение кроется в том, что опрошенный по наивности предполагает, будто слово «узнавать» всегда подразумевает одну и ту же объективную данность, тогда как на самом деле значение данного слова устанавливается конкретными случаями. На том же принципе основано и лжезаключение keratines (рогатый), гласящее: «Ты имеешь то, чего еще не потерял. Рогов ты не терял. Значит, у тебя есть рога». Тут заблуждение опирается, опять-таки, на наивность опрошенного, который предполагает в предпосылке вопроса фактическую данность. Тем самым возможно с неопровержимостью доказать, что абсолютное значение слов – всего-навсего иллюзия. В результате под угрозой оказывается реальность родовых понятий, имеющих в форме платоновских идей метафизическое бытие и исключительную значимость. Гомперц говорит:
Тогда не относились так недоверчиво к языку, как теперь, когда в словах мы так редко находим адекватное выражение фактов. В те времена, наоборот, господствовала наивная вера, что сфера понятия и сфера применения соответствующего ему слова всегда совпадают[60].
49 В условиях магического абсолютизма слов, по которому предполагалось, что слова отображают объективное поведение вещей, софистическая картина была безусловно уместной. Эта критика убедительно доказывала немощь человеческого языка. Поскольку идеи суть просто nomina (это еще требовалось доказать), нападение на Платона виделось оправданным. Однако родовые понятия перестают быть простыми именами, едва они начинают обозначать сходства или подобия вещей. Тогда встает вопрос о том, объективны эти подобия или нет. Они существуют фактически, а потому, следовательно, и родовые понятия соотносятся с некой реальностью. В них столько же реального, сколько реальности в точных описаниях предметов. Родовое понятие отличается от описания лишь тем, что оно описывает или обозначает подобия предметов. Значит, слабина заключается вовсе не в самом понятии или в идее, а в ее словесном выражении, которое, конечно же, ни при каких обстоятельствах не может в точности воспроизвести саму вещь или ее подобие. Поэтому номиналистические нападки на учение об идеях были, по сути, необоснованными, а раздраженная самооборона Платона была вполне правомерна.
50 Принцип свойства у Антисфена состоит в том, что к одному субъекту нельзя приложить ни многих предикатов, ни даже одного-единственного предиката, отличного от субъекта. Антисфен признавал лишь такие суждения, в которых субъект и предикат были тождественны. Если даже пренебречь тем фактом, что такие тождественные суждения (например, «сладкое сладко») вообще ничего не означают и потому являются бессмысленными, принцип свойства имеет тот порок, что тождественное суждение не имеет ничего общего с предметом: слово «трава» никак не связано с травой в природе. Вдобавок этот принцип изрядно страдает старинным словесным фетишизмом, который наивно предполагал, что слово всегда совпадает с предметом. Если поэтому номиналист говорит реалисту: «Тебе снится, что ты имеешь дело с вещами, а сам между тем сражаешься с словесными химерами», то реалист с тем же правом может ответить номиналисту теми же словами; ведь номиналист тоже орудует не предметами, а словами вместо предметов. Подбери он отдельное слово для каждого отдельного предмета, слова все равно останутся словами и не овеществятся.