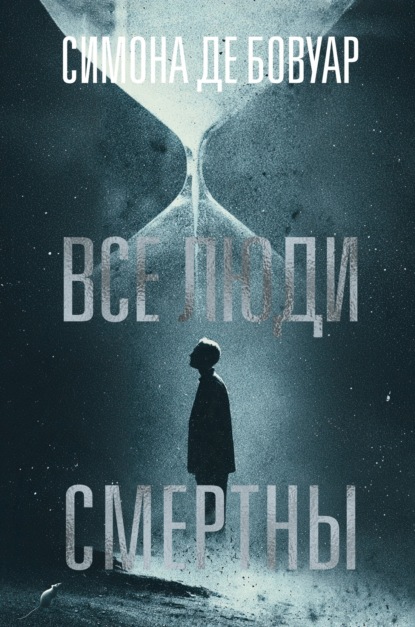Полная версия
Молитва к Прозерпине
Мы вошли в таверну, которая показалась нам достойнее остальных, хотя это заведение тоже было темным и грязным. Говоря «мы», я имею в виду себя и Сервуса, потому что Ситир не пожелала нас сопровождать и пошла дальше неизвестно куда. К этому времени я уже усвоил, что моя власть над ахией чисто номинальна, поэтому я пошутил, как мы это делали в Субуре.
– Ты могла бы, по крайней мере, сообщить, где тебя искать, – закричал я ей вслед. – Просто так, на всякий случай: вдруг кто-нибудь решит меня убить.
Она даже не обернулась.
– Доминус, не переживай, – утешил меня Сервус. – Если она тебе понадобится, то не замедлит явиться.
Даже таверна в Утике доказывала, что это заурядный и скучный провинциальный городишко. Самым изысканным блюдом, которое мне предложили, оказались перепелки в остром соусе, приготовленные весьма неумело. Кроме того, прямо за обедом ко мне стал приставать какой-то паренек, предлагая свои эротические услуги и желая подарить мне себя в полную собственность! Поскольку меня его предложение вовсе не заинтересовало, он попытался стырить мою сумку, но Сервус, бывший начеку, громко закричал, пятеро носильщиков паланкина вошли в таверну и схватили воришку. Я не стал их останавливать, и они задали негоднику трепку. Поскольку делать мне было абсолютно нечего, я завел с ним разговор, продолжая обгладывать перепелиные окорочка и пить скверное вино:
– Как тебя зовут?
– Куал.
У него были тонкие волосы такого же черного цвета, как его глаза, и кожа оттенка красноватой глины. Он был похож на одну из карикатур с египетских пергаментов.
– На твоем месте, Куал, я бы сменил профессию: когда ты воруешь, тебя бьют, а когда пытаешься предлагать услуги содомита, тебя игнорируют, – сказал я ему.
– На самом деле я был пастухом, но потерял свое стадо, – объяснил он.
– Как может пастух потерять все стадо сразу? – поинтересовался Сервус.
– Оно убежало.
– Убежало? – переспросил я. – Если овцы от тебя убежали, то и пастух из тебя никудышный.
– Разреши мне стать твоим рабом, доминус! – внезапно вернулся он к своему первоначальному предложению. – Я хочу, чтобы ты стал моим хозяином!
– Но почему ты хочешь потерять свою свободу? – На минуту мной овладело любопытство.
– Я хочу уехать из Африки!
– Пошел вон.
И тут нашим глазам предстала сцена совершенно неожиданная и потому удивительная: Куал упал на колени и стал целовать мне ноги, плача и стеная.
– Доминус, доминус! – кричал он. – Возвращайся в Рим и возьми меня с собой на корабль! Беги из Утики! Ты не знаешь, что здесь происходит!
Пятеро носильщиков отогнали его подальше от меня ударами палок. «О времена, о нравы!» – как сказал бы мой отец: в римском обществе были люди настолько обездоленные и нищие, что даже свобода превращалась для них в непосильную ношу. Но неожиданный порыв этого смуглого паренька и искренность его отчаянных криков меня взволновали. Что могло внушить ему такой ужас? Я рассмотрел его повнимательнее, когда он шел к дверям: все его достояние в этом мире – пухлые губы да потрепанная набедренная повязка, такая узкая, что едва прикрывала гениталии. Мне почти стало его жалко.
Чуть позже я предстал перед наместником провинции, пропретором Силом Нурсием. Не стоит и говорить, Прозерпина, что имя Цицерона открывало множество дверей. Нурсий обнял меня, как родного, и, чтобы оказать мне особую честь, проводил меня в свои частные покои.
– Прежде всего, – заявил он, как только мы устроились в комнате, – я хочу, чтобы ты передал своему отцу мои самые искренние поздравления в связи со спасением Республики и с великой победой при Пистое.
В рассказах о заговоре Катилины фигура моего отца приобрела такой вес, что Нурсий верил, будто Цицерон собственной персоной возглавил войска во время битвы. Отец научил меня ценить правду, и поэтому я любезно возразил ему:
– По-моему, пропретор Нурсий, расстояния несколько искажают реальные события.
И я кратко описал, как все происходило на самом деле, нисколько не умаляя заслуг моего отца. Потом мы заговорили о цели моего приезда в Африку: я спросил его о мантикоре и слухах, распространявшихся о чудовище. В ответ на мои слова Нурсий выразил совершенно искреннее удивление.
– Какая еще мантикора? Здесь, в моей провинции? – сказал он. – Представь себе, до тебя никто не говорил мне об этой новости. Мы живем в Африке, и здесь можно встретить самых странных тварей, но откуда тут взяться мантикоре? И вдобавок почему именно эта зверушка вызывает такой интерес?
– Дело в том, – попытался оправдаться я, – что, согласно мифам и легендам, появление мантикоры предвещает крах какого-нибудь важного политического института.
– Но мифы и легенды – это не более чем мифы и легенды, которые человеческий разум принимает для своего развлечения и увеселения, а вовсе не потому, что в них заключена истина.
Мне нечего было ему возразить по той простой причине, что я был с ним полностью согласен.
– И ты уверен, что такая зверушка действительно появилась? – уточнил он из простой вежливости. – И именно в моей провинции?
– Мой отец уверен, что его информировали правильно.
– Дело в том, Марк, – сказал Нурсий снисходительно, повторяя мои собственные слова, произнесенные всего несколько минут назад, – что расстояния несколько искажают реальные события.
И на этом наша беседа в основном завершилась.
* * *Нурсий настоял на том, чтобы я остановился на принадлежавшей ему вилле на окраине Утики. Я не стал с ним спорить и благодаря прекрасно обученным носильщикам паланкина прибыл туда очень быстро.
Как все римские виллы, это был большой крестьянский дом, окруженный оливковыми деревьями и пшеничными полями, но более роскошный и величественный. Нурсий редко им пользовался: иногда устраивал там празднества или частные церемонии, а иногда размещал важных гостей вроде меня.
В тот вечер, когда я ужинал, появилась Ситир, которой не стоило никакого труда меня разыскать, войти в трапезную и приблизиться. Нурсий, само собой разумеется, прислал пару стражников, чтобы охранять ворота виллы и обеспечить безопасность сына Цицерона, но никто из них не решился преградить путь ахии.
Ситир вошла, не поздоровавшись и не объявив о своем появлении. Она даже рта не раскрыла, а просто опустилась на колени перед столиком, ломившимся от яств, и начала есть, не спросив у меня разрешения.
– О, пожалуйста, не стесняйся, дорогая Ситир, – съязвил я. – Ешь и пей, сколько тебе будет угодно.
Сервус, заботясь о моем достоинстве и желая выручить меня из неловкого положения, успокоил меня:
– Ахии – свободные мужчины и женщины и, безусловно, являются гражданами всех городов, ибо им везде рады. Совместная трапеза с ахией никак не умаляет твоей чести.
Однако в тот вечер меня вовсе не волновали правила поведения, и Сервус это понял.
– Ну и что же ты собираешься делать, доминус?
– Конечно, вернуться в Рим, – ответил ему я. – Сам пропретор отрицает слухи о появлении мантикоры. А разве кто-нибудь способен оспорить его мнение?
– Если ты вернешься так быстро, твой отец может посчитать, что ты, выполняя его поручение, не проявил должного рвения.
Мне решительно не понравилось, что какой-то раб взял на себя смелость судить и давать мне советы, когда его об этом не просили, словно был мне ровней. Я сменил тон:
– А знаешь ли ты, каким способом мой друг Гней-Кудряш наказывает слишком болтливых рабов? Он говорит: «Член усмиряет скорее, чем плеть», и считает, что языкастых рабов следует насиловать на глазах у прочих, чтобы они усвоили урок. Ты что, этого хочешь?
– Доминус, все в Риме знают мнение твоего отца, – сказал он в свою защиту.
И здесь, Прозерпина, я должен объяснить тебе пару деталей об устройстве управления провинциями, чтобы ты поняла, на что намекал Сервус.
Когда одному из магистратов поручали управление какой-нибудь провинцией, все его усилия были направлены на достижение одной-единственной цели: награбить как можно больше добра с самого первого дня вступления в должность и до последнего. Девять из десяти наместников были просто хищниками в человеческом обличье, которые использовали данную им Сенатом власть, чтобы отобрать всё, до последней монеты, у несчастных обитателей провинции. Может быть, Рим выбирал наместников среди самых негодных представителей рода человеческого? Нет, дело не в этом. И тут мое мнение расходилось с выводом моего отца. Он считал, что проблема заключалась в добродетели, вернее, в ее отсутствии у претендентов на высокие должности; а с моей точки зрения, корень зла таился в самой системе правления.
Когда Республика начала завоевывать новые территории и посылать туда проконсулов и пропреторов для управления, эти люди очень скоро пришли к совершенно очевидному выводу: поскольку в их руках была сосредоточена вся власть на местах, они могли делать все, что им было угодно. И я имею в виду самый откровенный, преднамеренный и бесстыдный грабеж, коему когда-либо была свидетельницей мать-История.
Теоретически существовали тысячи законов, направленных на то, чтобы обуздать зарвавшихся наместников. Но, как говорил мой отец, чем больше в государстве коррупции, тем больше законов против нее оно создает. Я коротко опишу тебе, Прозерпина, суть этой системы. Сенат поручал наместникам провинций две важные задачи: охрану общественного порядка и сбор определенной годовой суммы налогов. В чем же заключался фокус? Если наместник собирал больше денег, никто не требовал с него разницу – и он просто клал ее себе в карман. Наместники, в свою очередь, поручали сбор налогов публиканам – частным лицам, которые получали комиссию за свои услуги.
Ты даже не можешь представить себе, Прозерпина, усердия этих хищных сборщиков налогов. Они пользовались поддержкой римской армии и ради получения баснословной прибыли выжимали последние деньги у богачей и бедняков, взимали мзду с форумов и городов, не жалея никого и ничего: ни святых мест, ни гражданских институтов. Они придумывали тысячи налогов и податей, и того, кто не платил их, наказывали плетями и обращали в рабство. И не только самого провинившегося, но и всех его родственников до третьего колена. Обычно наместник оставался на своем посту пять лет и каждый день требовал, чтобы публиканы приносили ему все больше и больше денег, потому что его единственная навязчивая идея состояла в том, чтобы вернуться в Рим как можно более богатым, пусть даже ценой того, что после себя он оставлял абсолютную пустыню – разоренную и опустошенную провинцию, как если бы она испытала нашествие варваров. Да что я говорю? Могу заверить тебя, Прозерпина, что любой житель провинций, если бы ему предложили выбирать между проконсулом и его публиканами, с одной стороны, и ордами скифов – с другой, предпочел бы скифов, какими бы ни были эти самые скифы. Деньги, деньги и снова деньги… К тому времени, когда наступил Конец Света, деньги уже подточили основы цивилизации.
Когда такой наместник возвращался в Рим после окончания своего срока, в Сенате его нередко привлекали к ответственности за коррупцию. И здесь позволь мне, Прозерпина, объяснить тебе одну вещь: эти судебные расследования предпринимались вовсе не ради восстановления справедливости, а лишь из стремления обогатиться. Политические соперники обвиняемого сами стремились занять пост, который он оставил вакантным, и поэтому старались очернить его как могли, чтобы предстать перед Сенатом в качестве более достойной смены своего предшественника. Однако, как объяснял мне отец, в этих случаях нередко обвинитель, привлекавший к суду бывшего наместника, одновременно нанимал тех же самых публиканов, которые работали на обвиняемого! Как бы то ни было, обычно прежний наместник благодаря состоянию, накопленному в разграбленной провинции, избегал наказания, подкупив сенаторов, которым поручено было его судить.
Сенаторы! Эти благороднейшие и суровые наследники первых отцов отечества! Вот смех-то, Прозерпина! Ха! И еще раз ха! Говоря о коррупции, в Риме всегда приводили в пример древние азиатские сатрапии[21], но я уверяю тебя, дорогая Прозерпина, что самый жестокий восточный царек не поверил бы, насколько пороки, низость, алчность и корысть укоренились в римском Сенате. «Я прибыл в самый великий город мира, – сказал один из наших врагов, посетив Рим, – и во всем этом чудесном городе нет ни одного человека, ни одной живой души, которая не была бы выставлена на продажу». Ну хорошо, допустим, он не был знаком с моим отцом, но его оценка в целом совершенно справедлива.
Именно так, дорогая Прозерпина, было устроено управление римским миром, моим миром, перед самым Концом Света. Грабеж был нормой, а лицемерие – штандартом.
Вернемся, однако, на виллу на окраине Утики, где я ужинал.
– Я прекрасно понимаю, что пропретор Нурсий – человек недостойный, немногим лучше Катилины, – признался я, обращаясь к Сервусу. – Тем не менее это не имеет никакого отношения к истории с мантикорой: если бы такое чудовище действительно появилось здесь, он бы об этом знал.
– Патриции живут в одном мире, а плебс в другом, – заметил раб. – Люди благородные часто просто не видят того, что для простолюдинов обыденно и естественно.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты, например, не верил в ахий. А сейчас смотри: одна из них делит с тобой ужин.
Он был прав: по другую сторону триклиния сидела на земле Ситир, медленно жевала и, казалось, пропускала наши слова мимо ушей.
Хотя Сервус довольно часто позволял себе дерзкие выходки, он обладал быстрым и ясным умом, и поэтому я прислушался к его совету. В зале находилась пара рабов из дома Нурсия, которые были предоставлены мне для услуг. Я обратился к ним.
– Эй, вы, послушайте, – спросил их я. – Вы когда-нибудь слышали разговоры о мифическом существе, которое зовут мантикорой?
Я ожидал, что они ответят отрицательно и таким образом вывод Сервуса будет опровергнут. Однако, к моему изумлению, оба почти в один голос сказали:
– О, конечно, доминус!
Один из них добавил:
– Всем известно, что некий юноша совсем недавно видел мантикору.
– Это было на юге, доминус, в пустыне, – уточнил другой.
– В пустыне?
– Мы здесь называем пустыней все степи за пределами города, где никто не живет, – уточнил он. – Это было отвратительное чудовище с четырьмя лапами, черным туловищем и человеческой головой. Вместо кожи у него змеиная чешуя, а в пасти – три ряда клыков.
Меня уязвило, что Сервус оказался прав, и я на минуту растерялся, не зная, что сказать, но потом попытался возразить.
– Все это бред и глупые россказни! – воскликнул я и обратился к двум рабам Нурсия: – Послушайте, этот юноша, который видел мантикору… он, конечно, знакомый одного вашего знакомого, правда? Слухи всегда распространяются так: все говорят о свидетеле, но никто его никогда не видел. Да, слухи подобны источнику: все пьют, но никто не знает, откуда в нем берется вода.
И тут в наш разговор вмешался Сервус и задал двум рабам очень простой вопрос:
– Это так?
– Все знают юношу, который видел мантикору, – возразили рабы, словно хотели выставить меня на смех. – И вид чудовища так напугал беднягу, что он бросился наутек и больше не возвращался в те места. Сейчас он бродит где-то в порту. Это молодой пастух по имени Куал.
– Куал! – подскочил на месте я.
– Может быть, он не зря приставал к нам, – сказал Сервус. – Если ты помнишь, доминус, он искал каких-нибудь путешественников, чтобы уехать из Африки вместе с ними. Что бы он ни увидел там, в пустыне, это зрелище напугало его до полусмерти.
Я подумал, мгновенно пришел к выводу, что ничего не потеряю, допросив этого оборванца, и поэтому обратился к Ситир:
– Эй, ты, отправляйся в порт или в таверны в порту, разыщи этого самого Куала и приведи его ко мне.
Ее ответ был столь же ясен, сколь краток:
– Нет.
– Как это – нет? – разозлился я. – Почему – нет?
– Потому что он не причинил тебе никакого зла, птенчик, а ты не желаешь ему никакого добра.
– Ты не слушаешься меня и мне не подчиняешься! – заорал я. – Надеюсь, однажды я пойму, зачем ты вообще следуешь за мной!
– Может быть, когда-нибудь и поймешь, – ответила она равнодушно, не глядя на меня и продолжая жевать.
– Доминус, – вмешался тут Сервус, желая разрядить обстановку, – эти два местных раба прекрасно знают пастуха и все притоны, куда он наведывается. Возможно, было бы лучше послать их.
– Тогда идите вы и приведите сюда Куала силой или уговорите явиться по доброй воле, – сказал им я, – и вам станет известно, как щедр может быть наследник Туллиев.
После этого у меня вырвался жалобный крик:
– Я не могу доверять ни богатым и могущественным, потому что они алчны и лживы, ни бедным и слабым, потому что они доверчивые идиоты! Так на кого же мне надеяться? Мое положение более чем странно: у меня нет ни друзей, ни врагов! Все вон отсюда! – закричал я. – Оставьте меня одного!
В ту ночь я позволил своему телу испытать всю силу африканского вина, известного своей крепостью. Я оказался далеко от дома, мною овладели скука и безразличие, и поскольку поблизости не таились враги, от которых следовало защищаться, а ни один друг не удержал меня, я весь пропитался вином, словно рот Бахуса[22].
Охмелев, я проклял Республику, Сенат и моего отца с его дурацкими политическими идеями. С одной стороны, он был человеком здравомыслящим и видел, что римское владычество над миром несет этому миру страшные несчастья, а с другой – предлагал совершенно наивное решение проблемы: он хотел, чтобы Республикой правила группа избранных праведных людей. Ты все поняла, Прозерпина? Спасением, по мнению Цицерона, должно было стать образцовое и безупречное правительство! Какая откровенная глупость! И вот вопрос, который я задавал себе: как может человек быть одновременно столь мудрым и столь наивным?
И я уверяю тебя, Прозерпина, что я тысячу раз говорил об этом с отцом, но ничего поделать не мог. Цицерон – тот самый человек, который перед моим отъездом говорил мне о Катилине и его неспособности измениться, – сам никогда бы не изменился. Сколько бы он ни критиковал римские институты власти, ему никогда не могло прийти в голову начать глубинные их реформы. И знаешь почему, дорогая Прозерпина? Потому что, хотя Цицерон и критиковал Сенат, он сам благодаря своим достижениям превратился, как это ни парадоксально, в институт власти. По сути дела, мой отец обернулся неподвижной глыбой. Цицерон стал Римом.
А я сам? Мой отец мог бы изменить Рим, но не хотел этого делать. Я хотел, но не мог. И всем уже известна причина: неисправимая и безграничная трусость повелевала моим телом и моим духом. Но мне кажется, Прозерпина, что на самом деле я боялся не глубоких колодцев и острых клинков, а Рима, Сената и в конечном счете моего отца. Мне казалось невозможным возразить, даже если его приказ был очевидно неразумным, как тот, который привел меня в этот затерянный уголок Африки. Именно поэтому я оказался так далеко от дома и напился допьяна.
О моя подруга Прозерпина! Как я ненавидел себя в ту ночь в Утике! И сколько вина выпил! Я приказал, чтобы меня оставили одного, но патриций не может быть один, ему это не позволено. Когда голова моя закружилась и я упал на землю, чувствуя, как слюна течет у меня из уголка губ, в зал явились пять носильщиков паланкина под командованием Сервуса, чтобы уложить меня в постель. Мне вспоминается, что, пока множество рук поднимало меня с земли и переносило в спальню, я осыпал проклятиями и оскорблениями моего отца, сенаторов, всех и вся. Досталось даже сосцам волчицы, вскормившей основателей Рима.
И тут, Прозерпина, я услышал эти слова.
Пока они несли меня, Сервус обратился к рабам-носильщикам. Он воображал, что я опьянел настолько, что потерял слух и способность соображать. Но сквозь винные пары мне удалось услышать и понять слова, которые меня встревожили. Сервус говорил остальным:
– Разве вы сами не слышите? Даже этот заносчивый сопляк признает это, хотя он сам один из власть имущих: Рим – это зло, они – зло! Патриции – наши враги! Рим, Рим, Рим!
* * *С вином я переборщил и на следующий день чувствовал себя так, словно тысяча скифских барабанов стучали в моей голове. Я прекрасно помнил слова Сервуса, но не стал ему ничего говорить из-за головной боли и еще потому, что неожиданно возникло дело поважнее: рабы привели Куала.
Они нашли юношу накануне вечером, но решили не нарушать моего ночного покоя. И хорошо сделали. Я пребывал в отвратительном настроении и, когда паренька привели ко мне, вел себя довольно нелюбезно, потребовав, чтобы он рассказал, где и как ему довелось встретиться с чудовищем, упомянул все, что знал о мантикоре, и не упустил ни одной важной детали. И вот, дорогая Прозерпина, как все случилось, по словам Куала.
Куал был нищим пастухом и водил небольшое стадо по сухим степям к югу от Утики. Выпасы представляли собой равнины сухой, растрескавшейся красноватой земли, на которой почти ничего не росло. Только козы могли выжить среди скудной растительности этих мест – редких кустиков травы и колючего кустарника.
В этом пустынном месте доход приносила только шахта, вырытая за пределами человеческой цивилизации. Поскольку до ближайшего городка было очень далеко, плебеи, управлявшие шахтой, покупали козлятину и молоко у Куала, который жил неподалеку в глинобитной хижине, где он также варил отвратительный сыр.
Все началось в самый обычный день. Куал сидел под акацией и скучал, наблюдая за пасущимися козами, когда ему послышался какой-то далекий шум. Он показался пастуху необычным: словно кто-то сыпал в яму мелкие камешки и одновременно втягивал в себя воздух. «Как будто несколько быков раздували ноздри, опустив морды к песку» – так описал он этот звук. Куал не смог определить, откуда он исходил, но, поскольку доносился шум явно издалека, он не придал ему значения.
Однако на следующий день это явление повторилось. На этот раз звук был яснее и громче и раздавался ближе. Козы встревожились. У Куала, как у всех пастухов, свободного времени хватало, поэтому он решил узнать, откуда исходит таинственный звук. Пока он бродил по выжженной солнцем степи, его охватило странное предчувствие. Ему показалось, что звуки исходят откуда-то снизу, и он даже опустился на колени и приложил ухо к земле. Так оно и было: непонятный шорох доносился оттуда, из-под земли, и с каждым часом козы волновались все больше и больше.
И на третий день появилось оно – чудовище. Мантикора.
Сначала возник голубой туман. Куал пас своих коз на пустоши, когда откуда-то возникло облачко голубоватого и зловонного пара, которое стелилось по земле, распространяя запах серы. Козы повели себя самым неожиданным образом: у них гораздо сильнее, чем у других животных, развит стадный инстинкт, а тут они бросились врассыпную, точно испуганные олени.
Куал попытался их удержать, размахивая посохом, но ничего поделать не смог. И тогда, вместо того чтобы устремиться вслед за животными, он пошел в противоположном направлении, туда, откуда исходило облачко голубоватого зловещего тумана (сей факт говорит о решительности и смелости этого паренька и одновременно свидетельствует о его глупости).
Подойдя поближе, юноша обнаружил, что перед ним не низко стелющееся облако, а какие-то газы, исходившие из земли, а точнее, из ямы размером чуть больше обычного колодца. Любопытный Куал подошел к отверстию, забыв об осторожности, и увидел только темную бездонную пропасть. Тогда он наклонился и сунул голову в яму. Это движение едва не стало последним в его жизни.
Из глубины появилась голова с лысым вытянутым черепом и сероватой мордой, которую украшали два глаза размером с кулак. Пасть у чудовища была огромной, и его длинные челюсти блестели тремя рядами острых зубов. Куал невольно отпрянул и упал навзничь. Монстр выполз из ямы целиком в голубоватом облачке испарений. Его черное кошачье туловище покрывала чешуя. Львиным прыжком мантикора подскочила к пастуху и набросилась на несчастного, который не успел еще подняться с земли. Но Куал не желал умирать и, собрав все свои силы, ударил зверя посохом ровно между глаз.
Страх делает людей, оказавшихся в безысходном положении, сильными: удар оказался таким мощным, что мантикора скорчилась от боли и, гневно рыча, скрылась в клубах голубого тумана. Воспользовавшись этим, несчастный юноша, не оглядываясь, быстро побежал прочь, словно Меркурий[23] на четырех ногах, и не останавливался, пока силы не оставили его. Вероятно, только благодаря удару посоха и быстрому бегу ему удалось выиграть время и спастись, но Куал был так напуган, что мечтал только о том, чтобы оказаться как можно дальше от Логовища Мантикоры. И через несколько дней он добрался до Утики с одной-единственной целью: оказаться на другом берегу моря, которое отделило бы его от того, что он увидел в пустыне, чем бы оно ни было.
Юноша закончил свой рассказ; мы все – я сам, Сервус и пять носильщиков – молчали, не отрывая от него взгляда. Даже Ситир Тра, обычно такая невнимательная, пристально смотрела на Куала, широко открыв глаза и не мигая. С одной стороны, весь его рассказ казался безумной фантазией, но с другой – этот пастух был человеком слишком недалеким, чтобы выдумать такую сложную историю. Я в задумчивости постучал пальцами по столу.