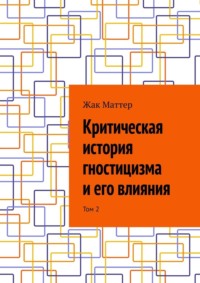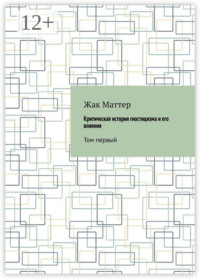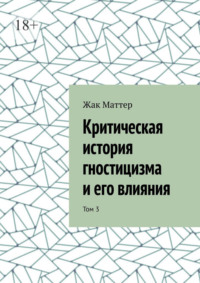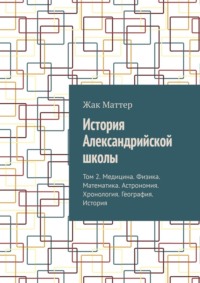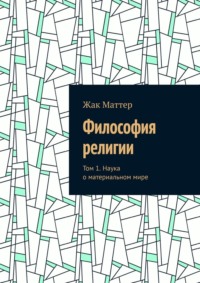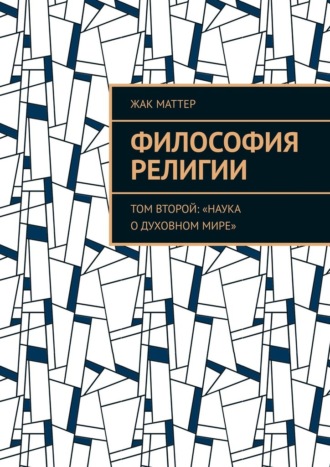
Полная версия
Философия религии. Том второй: «Наука о духовном мире»
Свидетельствует ли все это о наличии у нее постоянного ясновидения, хотя и в латентном состоянии, из которого наука могла бы извлечь пользу, если бы нам удалось пустить его в ход?
Нам нравится говорить, что этот вопрос не воспринимался достаточно серьезно. Возможно, во времена Месмера было слишком много энтузиазма; но с тех пор было проведено так много экспериментов и так много различных наблюдений, и одни из них привели к такой чистой критике, а другие – к такой абсолютной беспристрастности, что если решения не найдены, то это не вина работы или метода. Это слишком глубокая неясность предмета, так искусно завуалированная. Говорят также, что исследователи часто превращают ясновидение в индустрию на службе у терапевтов, что те, кто стремится к более высокой степени ясновидения, не ищут некоего возвышения для души, а эксплуатируют здесь самозванство, в другом месте – легковерие, физическое явление, иногда реальное, иногда искусно симулируемое продажными сомнамбулами. Но возможность злоупотребления не является аргументом. Наконец, говорят, что именно приверженцы мистицизма занимаются этими исследованиями, ставя на службу заранее определенной системе все факты, с которыми они сталкиваются или которые они готовят при лояльном, но доверчивом соучастии. Но даже если бы было верно, что эти явления происходят в основном в странах, где господствует сильная вера и религия, и отказываются появляться в других местах, это ничего не доказывало бы против их реальности, поскольку очень просто, что определенные духовные факты развиваются только при определенных условиях. Более того, сегодня эти явления происходят не только в классических странах эксцентричности, но и в других; а многочисленные публикации, в которых они представлены, принадлежат всем языкам и всем цивилизованным нациям. Если исследования, продолжающиеся уже почти столетие, не продвинули науку далеко вперед, несмотря на множество непрерывных экспериментов, тщательно проводимых во всех великих центрах просвещения и людьми, принадлежащими к самым ученым обществам, то в этом виновата не мистическая экзальтация или теософский энтузиазм; ведь приверженцы критицизма и пантеизма показали себя в этом вопросе такими же религиозными, как и сторонники простого спиритуализма или деистического рационализма. И все же, в конце концов, первые признаются, что они столь же невежественны, как и вторые.
Какова связь между странным состоянием, в которое нас вводит магнетизм, и нормальным состоянием души? Уступает оно или превосходит? Принадлежит ли способность находиться в этом состоянии определенным организмам, более хрупким и нежным, чем другие, или же она присуща всем? Достаточно ли простого волевого акта или нескольких жестов, чтобы перевести туда нас или других? Дает ли эта власть над другими еще большую власть, своего рода моральную империю, которая лишает их свободы?
Ни на один из этих простых вопросов пока не удалось ответить. Если бы только на последний вопрос был дан утвердительный ответ, это показало бы нам еще большее сходство между душами, чем мы признаем. Нам приходится с пренебрежением относиться к некоторым утверждениям и с сомнением – к неприемлемым решениям, но не к невежеству. Мы не должны отвергать факты a priori только потому, что они странные, мы должны обратить внимание на саму их странность. Если решение проблем, которые они влекут за собой, возможно, то только такой ценой. Но, как правило, окончательные решения ускользают от нас, и именно к исследованию, а не к ясновидению, мы призваны во всем; именно через исследование мы растем больше всего. Отныне вряд ли будет возможно абстрагироваться от добытых фактов или объявить ложными все те, что были опубликованы. Так, для спекулятивной психологии явления магнетизма и высшего сомнамбулизма – то же, что для высокой физиологии факты патологического экстаза, истерии, каталепсии и эпилепсии, две последние из которых объединяет с сомнамбулизмом полная остановка чувствительности и временное прекращение игры одной из самых нерушимых наших способностей – чувствительности.
Следует также помнить, что если не одни энтузиасты предлагают больше всего решений, то и критики тоже не одни. Наука, как и человечество, является домом для всех и требует того же от каждого.
Последние исследователи, утверждающие, что столкнулись с духовным миром, в который они сначала не верили, а сегодня почти не верят, возможно, ставят более важный вопрос, чем критики и скептики, и именно его мы вскоре затронем: наши отношения с другими духами или моральными существами, помимо человека, ибо было бы хорошо знать, существуют ли они только для тех, кто их наблюдает, и для тех, кто верит в наблюдателей, или же они являются фактом.
IV. Явления и способности воли
Феноменам воли было отказано в ранге и независимости особой группы. Говорили, что воля является следствием модификаций, которые остаются для нас неизвестными. К этому добавлялось, что наши решения столь же принудительны, как и другие действия души или движения других одушевленных или неодушевленных существ. (См. Destutt de Tracy, Ideologie, t. I, p. 68 ff.)
Единственным результатом этой теории было подчеркивание неоспоримой истины, на которую она нападает, – свободы или способности к волевому усилию. Свобода – это не только способность распоряжаться нашей деятельностью, это прежде всего способность желать и разрешать ее; ведь любому действию предшествуют две вещи: обдумывание и разрешение. Воля, таким образом, предполагает разум, а также чувствительность, но она отличается от них, являясь их позднейшей формой. Мы волим лишь постольку, поскольку у нас есть идеи и привязанности. Именно в этом смысле воля продолжает чувствительность и интеллект, но в то же время она настолько отличается от них, что включает в себя целый ряд собственных операций. Она овладевает собой, оценивает мотивы и побуждения к действию в соответствии с их более или менее обязательным характером; обдумывает, решает или останавливается, и все это в силу той свободы, которая есть не что иное, как сама воля.
Ведь мы не приняли бы решения, если бы не хотели и если бы не были свободны его принять.
Однако воля ничего не достигает сама по себе; она действует только с помощью органов тела. В ее распоряжении есть этот инструмент, но его использование связано со многими условиями. И каким бы абсолютным он ни был в теории, на практике он может быть ограничен. Согласно чистой концепции, мы вольны желать чего угодно. Но, во-первых, у нас нет средств для всего; во-вторых, мы даже не можем желать всего: мы не должны желать зла или неразумных вещей.
Единственное, что верно, – это то, что у нас есть способность завещать и способность выполнять свои решения в рамках условий человечества и средств, доступных нам индивидуально. Мы можем желать вне этих пределов; но принимать серьезные решения вне этих пределов – нездоровое мышление. Наша свобода неограниченна только в том смысле, что мы постоянно волим и действуем.
В этом смысле воля даже более свободна, чем любая другая способность. Операции интеллекта и чувствительности непроизвольны. То же самое нельзя сказать о явлениях воли, которые, по сути, являются добровольными. Человек не волен принимать ощущения или отвергать идеи, выбирать одни или отказываться от других; но он хозяин того, чтобы принимать одни решения или другие, и его действия по сути своей преднамеренны.
Чтобы охарактеризовать это различие, мы говорим, что это наш интеллект думает, а наша чувствительность наслаждается или страдает в нас, в то время как это мы хотим. Но мы сами чувствуем и думаем, и верно только то, что мы признаем себя ответственными за наши решения, тогда как мы не признаем себя в такой же степени авторами наших ощущений и восприятий.
Несомненно, существуют ощущения, за которые мы несем ответственность, и мысли, за которые мы должны дать отчет; но это происходит потому, что в этом участвует акт воли. Когда Декарт сказал: «Воля – это то, что больше всего принадлежит нам», он просто придал воле то значение, которого она заслуживает; но он преувеличил, когда сказал, что «только воля, так сказать, составляет человеческое мышление».
Совершенно верно то, что воля более едина, чем другие способности; что интеллект очень многообразен и имеет части, которые ослабевают; что чувствительность разделяет с ним этот характер, в то время как воля остается более неизменной, растет и ослабевает меньше с возрастом и часто более энергична, если не более стремительна, в конце, чем в начале.
Говорят, что это происходит потому, что она больше находится внутри и меньше на поверхности, и так мало прикреплена к организму, что сама френология не осмеливается указать ее местоположение. Говорят, что она более равна в человеке и равна во всех людях; что не природа создает среди нас слабые или сильные характеры, подобно тому как она создает различные умы, но, напротив, она производит равные воли; что люди равны через волю; и что, если это единственно возможное равенство, то, по крайней мере, оно истинно. Но это равенство, которое подразумевает другие, является лишь неутешительной гипотезой. История всей нашей расы свидетельствует о различиях, и нет ни доказательств, ни даже вероятности того, что эти нюансы обусловлены воспитанием или обстоятельствами. Нюансы присутствуют в природе повсюду, и те, что присущи организму, обязательно влияют на те, что присущи душе. Тот факт, что воля не локализована, сам по себе весьма сомнителен, каким бы верным ни было невежество френологов относительно органа, служащего ей местом обитания.
Разумнее было бы сказать, что люди равны по воле, в том смысле, что все они подчиняются одному и тому же нравственному закону, и что только этот закон регулирует наши решения и судит наши поступки. Но это не мешает воле подвергаться влиянию и изменению, то есть господствовать над ней тысячью способов.
Наконец, говорят, что воля, по прекрасной привилегии, неограниченна, а другие способности, как бы ни было неограниченно число производимых ими явлений, более ограничены; что она неограниченна до такой степени, что ничто не может укротить ее, кроме нее самой.
Но между неограниченными способностями трудно сказать, какая из них самая неограниченная. Вернее всего, этот параллелизм заключается в том, что воля – это тот из наших способностей, который в наибольшей степени контролирует остальные. Однако она не является независимой от них и не может обойтись без их помощи. Она была бы только силой, скорее вредной, чем полезной, если бы ее не просвещал интеллект; она была бы только инертной силой, если бы ее не приводила в действие чувствительность.
V. Единство явлений и способностей
В целом, несмотря на теоретическое разделение различных классов явлений или проявлений, а также различных групп операций души, никогда не следует забывать, что способности, с помощью которых все происходит, составляют одну и ту же силу. Эта сила, состоящая из большого разнообразия способностей, выполняет различные функции; но ее способности так тесно связаны между собой, что обычно они действуют вместе, хотя и в разной степени, во всех операциях. Чувствительность настолько тесно связана с интеллектом, что идеи возникают из ощущений или чувств, и наоборот. Интеллект и чувствительность постоянно занимают волю, и воля постоянно работает с обоими или на обоих, так что малейшее ощущение постоянно порождает множество идей и решений. Это настолько верно, что спекулятивная психология больше не хочет использовать слово «факультеты души»; она признает только один, выполняющий очень разнообразные функции, из которых мы можем создавать классы или группы, но при условии, что мы не будем разделять жизнь. Только в этом смысле мы только что выделили три группы; а так как фактов так много, что их оттенки и роль различных способностей души или различных функций жизни становятся ясными только благодаря различию, то мы хорошо делаем, что различаем, если только не признаем принципа, что все совершается одной и той же силой.
Что касается управления и относительной важности каждой из способностей, каждая из которых имеет свою особую миссию, то иногда превосходство можно приписать одной, иногда другой.
Именно таким образом Мэн де Биран стремился распространить среди нас мнение, которое уже переняли другие, о том, что человека делает воля. Но точно так же мы можем сказать, что человека делает интеллект, поскольку именно разум отличает человека от зверя, и точно так же мы можем сказать, что человека делает чувствительность, поскольку бесчувственность делает скотину. Одним словом, рассматривать человека как волю столь же неверно, как и объявлять мир волей, как это делает один из самых оригинальных современных мыслителей. Есть воля, управляющая человеком, и есть воля, управляющая миром; ни мир, ни человек не являются волями.
Три способности, которые мы привыкли различать, так тесно связаны между собой, что, когда одна из них гаснет или умирает, душа перестает быть собой, и реальное разделение между ними – химера, существующая везде, кроме теории. Именно в непрерывной череде событий душа проявляет свою жизнь.
Представляет ли взаимодействие этих сил бесконечную или просто неопределенную череду?
Если бы душа была по своей силе и природе истинно бесконечной, ее проявления также были бы бесконечными, и, отнюдь не считая, что она уже раскрыла себя во всей полноте, мы бы с уверенностью допускали с ее стороны совершенно новые операции; мы бы не только сказали, что изучение души еще не закончено, но и с гордостью добавили бы, что оно никогда не будет закончено. Но существование бесконечного, превосходящего все и владыки всего, обязательно уникального и исключающего другое бесконечное, идея бесконечной души недопустима. Итак, если душа не бесконечна, у нее нет ни бесконечной силы, ни бесконечной мощи проявления. Но что вполне может существовать, так это ряд неопределенных проявлений, то есть таких, границы которых не определены наукой. Что новые проявления еще могут иметь место; что душа еще не проявила себя во всей полноте; что она не наблюдалась во всей своей игре, во всех нюансах и во всем объеме своей жизни; что этот объем в настоящее время неопределен, – эта гипотеза не только вероятна, она, пожалуй, единственно допустима; ибо ничто не обязывает нас верить, что душа уже развернулась во всей своей добродетели и раскрылась во всей полноте своих средств. Пока существовали точные наблюдатели, операции были одними и теми же, они происходили единообразно; уже эти устоявшиеся способы были установлены как законы, и эти законы провозглашены неизменными. Они зависят от методов, которые постоянно меняются, от степени общей культуры и от индивидуальных склонностей, которые варьируются бесконечно. И поскольку мы далеки от знания всех действий природы, всех функций материального мира, мы должны также полагать, что мы далеки от знания всех явлений духовного мира. Поскольку в пневматологии, как и в космологии, можно встретить новые факты, стоит ли обольщаться, что в первой мы сделаем открытия, подобные тем, которые химия совершает в свойствах тел и которые периодически меняют облик мира и жизни?
Сомнительно. Психология довольно стара; душа, легко наблюдаемая, уже хорошо изучена; однако, поскольку игра жизни души неопределенно разнообразна и могут быть нюансы, которые еще не раскрыты; поскольку мы можем предположить, что сам ее организм однажды окажется в лучших условиях, мы можем также предположить, что в нем откроются если не новые способности, то, по крайней мере, новые проявления старых. Физические явления магнетического сна и различные степени ясновидения, которые может предложить это состояние, представляют собой область, которая еще совсем новая, которую трудно исследовать и которая уже стала немного подозрительной, но в которой возможен прогресс. Отнюдь не закрывая барьер, необходимо, напротив, открыть его и быть осторожным, чтобы не пренебрегать всем, что завуалировано или таинственно. Эта антипатия к сущностно метафизической области, антипатия, в которой очень светские школы слишком сильно согласны с очень эмпирическими школами, имеет тенденцию делать не что иное, как заключать нас, несмотря на желаемый прогресс, во все более узкий круг. Когда критическая школа заявила, что таким образом закрывает перчатку и окружает душу своего рода китайской стеной, один немецкий поэт воскликнул с большим чувством: «Вы действительно верите, что разум ничего не знает о сверхъестественном мире? Почему бы ему не сплести свои представления о Боге так же естественно, как паук плетет свою паутину, чтобы поймать муху?
В самом деле, поскольку все явления разума, сколь бы разнообразны они ни были, могут быть связаны с тремя основными способностями и поскольку в настоящем состоянии мы не представляем себе существования в душе какой-либо другой способности, мы ошибаемся, полагая, что достигли конца. Поскольку эти способности, столь четко разграниченные и разделенные нами в теории, на деле сливаются и образуют лишь одну, мы имеем полное право сказать, что они являются фундаментальными способностями души, но мы не вправе утверждать, что нам уже известны все их возможные проявления. Новые обстоятельства, вызванные глубокими изменениями в наших старых привычках ума, могут принести большие новшества, а последующие волнения выставить жизнь души в ином свете. Недавние наблюдения М. де Рейхенбаха заставляют нас поверить, что наш организм сам по себе все еще содержит настоящие тайны: если бы они были верны, мы бы также предположили возможность существования подобных тайн в самой душе. Мы знаем о ее действиях только то, что нам известно; мы знаем только «я», или душу, в той мере, в какой она знает о себе. Теперь разница между душой и «я» ощутима. Поскольку в нас происходит много такого, на чем ум не останавливается, что интеллект не воспринимает, «я» – это только душа, знающая, что она думает, что чувствует и чего хочет; это только душа в состоянии бдительности над собой и восприятия себя. Если «я» – это только определенное развитие души, зависящее от определенного развития тела; если это только определенное состояние души, только овладение собой, зависящее от определенного состояния бодрствования; если оно изменяется во сне и страдает от всех модификаций, всех радикальных нарушений тела, то это подтверждает истину, что наука о душе, сведенная к наблюдениям за «я», не является наукой о душе в целом. Добавим, что эго не существует в примитивном состоянии ребенка, при некоторых болезнях, при отчуждении, даже при острой озабоченности. Оно не знает, что оно такое, когда спит, и в конце концов сводится к малому в доброй половине жизни.
Ведь если есть факты, которые сами по себе заставляют нас остановиться на них, и другие, на которых мы останавливаемся сознательно, то есть много таких, которые едва царапают поверхность зеркала, и еще больше таких, которые мы вообще не видим; так что большинство явлений попадает в ночь бессознательного. Поэтому жизнь можно сравнить с рекой, течение которой лишь изредка освещается лучом света – сознанием.
В этом случае представить, что мы теперь знаем весь человеческий дух, – значит впасть в странное заблуждение. Если душа – это только «я», то есть интеллект, который знает себя как мыслящий, чувствующий и желающий, то признать тождество души и «я» – значит отказаться от всякого знания о своей природе и происхождении, о своей судьбе и постоянстве. В самом деле, ничего этого не открывает нам ни самость, ни сознание, которое свидетельствует лишь об операциях, свойствах, атрибутах, случайностях, изменчивых фактах или простых абстракциях. Если душа вся в эго или в сознании, то феноменология – это вся психология. Тогда душа находится в мышлении, согласно Декарту, в ощущениях, согласно Локку и Кондильяку, или в волениях, согласно Мэну де Бирану. Так вот, если она находится в мысли, не имея иного фонда, кроме мысли, то это лишь способ проявления бесконечного интеллекта, божественной сущности, как хотят Малебранш и Спиноза, преувеличивая Декарта. Если она находится в ощущении, то это лишь ряд ощущений, как того хотят сенсуалисты всех времен. Если оно в воле, то это только простая операция, очень изменчивый факт.
Но кто не знает, что человеческий разум – это нечто большее, что есть нечто большее, чем психологическое «я», что есть этическое «я»? Ни умозрительное «я», ни моральное «я», то есть «я» свободной преданности и «я» естественного эгоизма, не были полностью изучены в их неразрывной близости. Когда Николь сказал, что самость ненавистна, он не сделал различия; и сам Кант не сделал достаточного различия, когда сказал: «С того дня, как человек начинает говорить „я“ или „мне“, он производит свое заветное „я“ везде, где осмеливается, и эгоизм отныне прогрессирует без остановки, если не открыто; ибо ему противостоит эгоизм других, по крайней мере тайно и с видимым отречением, притворной скромностью, чтобы иметь возможность придать себе в мнении других еще большую ценность. Далеко не разделяясь таким образом, эти два „я“ держатся вместе, как держится вместе все, что есть и происходит в человеке; и человеческий дух являет себя во всем своем величии только в их реальном союзе».
VI. Умозаключения об остальном интеллектуальном мире. Единство в многообразии. Центральная сила
Если явления духовного порядка неопределенны в человеческом роде, то тем более они будут таковыми в бесконечном разнообразии видов и в их совокупности. Бесконечное разнообразие, будучи общим законом физического мира, обязательно должно быть обнаружено и в духовном мире; и принцип этого разнообразия в явлениях различных видов интеллектов, будь то низшие, высшие или побочные по отношению к человеческому роду, имеет самую законную индукцию.
Неопределенным явлениям обязательно отвечают также коррелятивные силы, которые порождают их в бесконечности и которые должны быть более или менее аналогичны тем, что проявляются в нашем роде.
Эти силы можно классифицировать под тремя названиями, под которыми объясняются человеческие явления, и великий закон аналогии позволяет нам приписывать эти способности, модифицированные и разнообразные ad infinitum, всем разумным и нравственным существам Вселенной. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не подчинить их нашей мере и нашим пределам, чтобы применить к ним наши методы и, следовательно, наши доктрины. Несомненно, существуют истины, которые одинаковы во всей вселенной, поскольку они являются универсальными истинами; но поскольку эти истины по-разному понимаются в каждом народе нашего земного шара, тем более они будут по-разному пониматься в существах различных глобусов, и они будут составлять в одних сферах теории, системы, целые науки, совершенно отличные от тех, которые господствуют в других. Нигде, кроме как в лоне Бога, мы не должны искать абсолютной истины; везде есть лишь более или менее верные образы, более или менее чистые формы этой истины.
Среди множества духовных существ, призванных отражать Существо par excellence, одни могут быть менее благосклонны, чем мы, другие – бесконечно более. Поскольку наши способности очень ограничены по своей природе и по своей игре по сравнению со способностями абсолютного Существа, разум обязывает нас признать, что между нашим интеллектом и высшим Разумом существует неопределенный ряд других, одни очень высшие, другие очень низшие, все очень разные.
Однако разнообразие, один из великих законов творения, всегда подразумевает другой – единство. И подобно тому, как при пристальном изучении физических сил мы вскоре узнаем, что все они едины, принимая множество различных форм, мы также должны представлять себе интеллектуальный мир как единое целое, проявляющееся в постоянно меняющихся существованиях и формах.
Не стоит спрашивать, могут ли конечные силы предложить бесконечное разнообразие, ведь речь идет лишь о неограниченном разнообразии; но возникает серьезное возражение. Поскольку священная истина, которую следует воспринимать если не буквально, то, по крайней мере, во всей полноте высшей истины, заключается в том, что Бог наполняет вселенную, то как в ней может быть место для неограниченного разнообразия других сил, которые, в конечном счете, должны составлять одно и то же? Разве эта единая духовная сила не есть сам Бог, и разве интеллекты морального мира тогда не есть нечто иное, как просто божественные силы, без сомнения, различные и в стольких формах, сколько существует индивидуальных явлений, но все же непроизвольные и, следовательно, безответственные формы Бога?
Это очень серьезное возражение, поскольку оно возникало в каждом народе, в каждой школе и в каждом веке. Однако оно находит вполне удовлетворительное решение в простой концепции существ, которые происходят от всемогущего творца, но отделяются от него настолько, что образуют ответственные существования и собственные силы, но не независимые от сил Существа существ, универсального источника всего. Неразличение – это пантеизм, независимость – политеизм. Каждое нравственное существо – это личность, достаточно независимая в своей зависимости, достаточно свободная, одним словом, чтобы быть автором своих действий. Зависимость можно преувеличить, как и независимость, но малейшее преувеличение ведет к лжи. В то время как мы горячо ищем истину, мы видим, как самые лучшие умы в самых философских своих работах впадают в этом вопросе в самые необычные преувеличения.