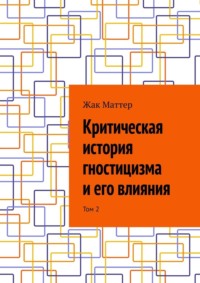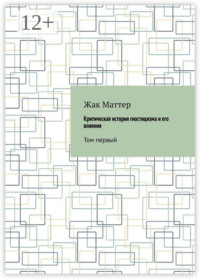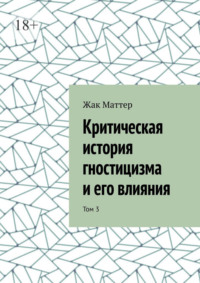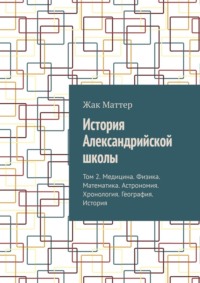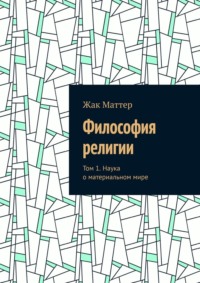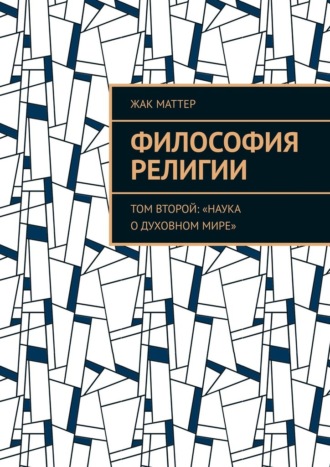
Полная версия
Философия религии. Том второй: «Наука о духовном мире»
Невозможно допустить, чтобы на всех мирах и во всех частях вселенной существовал лишь один класс небесных разумов – все одинаково квалифицированные, все тождественные, все, например, абсолютные или чистые духовности, не различающиеся ни в способностях, ни в назначении. Напротив, разнообразие обителей, атмосфер, тепла, климатов, растительности, космических условий всякого рода должно убедить нас в многообразии видов – одних сопоставимых с человеком, других высших, третьих низших.
Если естественно, что человеческая пневматология для нас важнее всего, служа исходной точкой всех выводов и центром, к которому сходятся все наши учения, из этого вовсе не следует, что мы – первые или что мы – последние в этом столь разнообразном, столь необъятном мире, представляющем разуму бесконечные ряды существ.
Человеческий род не может объявить себя ни абсолютно высшим, ни абсолютно низшим видом; было бы столь же противно разуму провозглашать любое из этих мнений, как и утверждать, что в необъятности вселенной существует лишь человеческий дух, исключая все прочие.
Мифология и поэзия, имеющие здесь полный простор, создали бесчисленное множество существ – одних ниже, других выше человека. Возможно, они были близки к истине, создавая и таких (как сильфы, гномы, ундины и саламандры), которые считаются ниже человека в одних отношениях, но выше в других – например, в мудрости и силе.
Наука не имеет права принимать эти творения в их положительных формах и с их особыми вымыслами, но философия имеет право брать отовсюду то, что соответствует разуму. Однако нет ничего более разумного, чем не помещать столь замечательный вид, как наш, на неуместное место. Если обычно нам отводят последнее место; если все остальные разумные существа помещают в промежутке между нами и бесконечностью; если таким образом Бога и человека делают двумя крайними пределами, то это лишено логики. Почему мы должны быть последними? Нет больше оснований для этого предположения, чем для того, чтобы считать нас первыми или единственными – тезисы одинаково абсурдные.
Святой Павел прекрасно направляет нас, когда в известных текстах ставит ангелов выше человека в некоторых отношениях, а в других приписывает нам несовершенство. Что явственно следует из этих мнимых противоречий, так это именно тот факт, что если мы и не первые среди духов, то и не последние. В этом отношении в мысли человечества есть достойные внимания указания. Согласно греческой мифологии, всякий демон (в греческом значении этого слова) выше человека; но ниже демонов существует множество духов, таких как нимфы, дриады, гамадриады, нереиды и многие другие, все – ниже человека.
Святой Бернард высказывает в пользу человека идею, которую назвали странной, но которая несомненно примечательна: согласно замыслу Бога, человек должен был быть возвышен над природой ангелов, и один из них, Люцифер, узнав об этом, из зависти к этому благу возгордился, что и стало причиной его падения.
Один современный философ хотел бы допустить лишь один вид духов – человеческий, рассеянный по всей вселенной; но он слишком мудр, чтобы не признавать значительных различий. «Сущностная природа человечества, – говорит Рейнхольд („Система метафизики“, с. 431), – проявляется повсюду и всегда во вселенной (sic) одинаковым образом, через тождественные свойства в особенности; но на каждом из globes, населённых мыслящими существами, должна быть своя степень, своя особая грань соматического организма. Эта модификация должна соответствовать физическому состоянию globes и степени духовного развития этих существ. В этом смысле, следует допустить в космическом, или всеобщем, человеческом виде бесконечное разнообразие видов. В то же время нужно признать, что на каждом globes существует лишь одна основная раса или вид, один тип организации, соответствующий физическим условиям данного globes».
Здесь есть степень умозрительной свободы, недопустимой для науки. Ничто не говорит нам, что сущностная природа человечества проявляется во всей вселенной; ничто не указывает, что, за исключением бесконечных вариаций, все нравственные существа принадлежат к великому космическому человеческому виду; ничто не позволяет нам думать, что на каждой сфере есть лишь одна раса, и раз мы насчитываем до пяти на столь ограниченной сфере, как Земля, почему допускать лишь одну на других? Ничто также не даёт основания предполагать всеобщую необходимость материального организма.
Г-н Рейнбольд, с такой лёгкостью населяя миры, оставленные пустынными из-за негативных смелостей или скептических робостей, возвышается, впрочем, весьма примечательным образом над вульгарной метафизикой. Однако нужно подняться ещё выше, установить больше классов и различий между существами и представить себе такие, которые, вне или выше материального организма и общей природы человеческого вида, приближаются к состоянию, где исчезает различие между духом и материей.
Должны ли различия и грани между существами, составляющими в совокупности духовный мир, длиться вечно? Необходимы ли они навсегда для осуществления общего замысла, или же им суждено исчезнуть однажды благодаря прогрессу всех классов?
В природе виды не смешиваются, и самым общим законом физического творения является аналогия в многообразии. Если то же самое происходит в духовном мире, ничто не дает нам оснований полагать, что однажды останется лишь один класс нравственных существ – чистые духи без организма.
Обычно считается, что единство природ требуется общностью этического порядка; но доказательство того, что разнообразие не разрушает единства нравственного закона, у нас перед глазами – в человеческом роде, где один и тот же нравственный закон дан всем, несмотря на бесконечное разнообразие оттенков, составляющих индивидуальность. Если мы склоняемся к мысли об исчезновении различий, то, возможно, нас ведет ложное стремление освободиться от всякого организма, чтобы войти в разряд ангелов или чистых духов. Но это стремление справедливо назвать ложным, поскольку разум не представляет нашего существования без организма, а религия указывает нам в будущем прославленное тело.
Таким образом, веские доводы подтверждают сохранение различий.
Следует ли допускать крайние различия – например, у одних материальность и несовершенство организма, приближающие их к животным, а у других – духовность и совершенство организма, сближающие их с Богом?
Нужно ли признать, наконец, что более духовное бытие последних – не их естественное и первоначальное состояние, а, напротив, последующее и достигнутое, подобно нашему будущему состоянию или тому, что уготовано нам на небесах?
Следует ли добавить, что все духи, какого бы класса они ни были, однажды войдут в ряды существ, уже сейчас более совершенных, чем мы, и таковых с самого начала? Нужно ли провозгласить принцип, что в итоге все образуют один и тот же класс без каких-либо различий и оттенков?
Ни разум, ни традиции человеческого рода не поддерживают эту систему, да и священные тексты её не требуют. Напротив, они указывают на четкую иерархию и дают различным классам ангелов разные наименования. (Еф. 1:21, Кол. 1:16.)
Самый сложный вопрос о существах духовного мира – вопрос об их числе, и тем не менее очевидно, что говорить об этом можно лишь в общих чертах. Поэтому легко согласиться с принципом, что всё неисчислимо – виды, оттенки, даже обители. Тексты всех религий говорят об этом в том же ключе, что и поэзия, а наши [писания] любят лишь слова «множество», «легионы», «небесные воинства».
Глава II. Явления и силы
I. Явления духовного мира в сравнении с явлениями мира материального
Подобно тому, как мы знаем лишь малейшую часть физического мира, и космология, далёкая от того, чтобы быть наукой о всей вселенной, едва простирается немного дальше нашего земного шара, лишь смутно угадывая остальное, – так же и духовный мир мы познаём лишь отчасти, а остальное лишь смутно, то есть предположительно, предугадываем.
Более того, в этом отношении мы ещё более ограничены, чем в изучении материального мира.
Хотя в нравственных науках можно применять тот же метод и достигать той же степени достоверности, что и в естественных науках, всё же нельзя отрицать, что наш кругозор здесь гораздо уже. В космологии мы, по крайней мере, достоверно знаем о существовании множества планет и солнечных систем, тогда как в пневматологии таким же образом нам известен лишь человеческий дух. Зато здесь мы сталкиваемся с более глубокими и удивительными по своей природе явлениями.
Ведь даже если бы, поддавшись абсолютному скептицизму и запретив себе любые умозаключения о других духах, мы ограничились чисто человеческой феноменологией, то и тогда нашли бы в ней больше величия и блеска, чем в самых грандиозных физических явлениях.
Разве мысль не предстаёт в мире интеллектуальном в виде ряда удивительных проявлений, великолепных открытий, поразительных творений, с которыми ничто в материальном мире не может сравниться – даже быстрота, плодовитость и сияние света? Разве чувство не раскрывается здесь в бесчисленных формах эмоций, ощущений и страстей, перед которыми меркнут даже самые таинственные силы космологии – вроде притяжения и тяготения? Разве воля, в свою очередь, не изливается из своих священных и неприкосновенных глубин в бесконечных проявлениях, великих размышлениях, решительных действиях и возвышенных деяниях – деяниях, которые никто не осмелится сравнить даже с самыми поразительными явлениями тепла или электричества? Что такое молния по сравнению с мыслью? И гром – по сравнению с воодушевлением?
Как обширен и богат мир психический – даже если говорить только о нашем собственном, не касаясь тех фактов, о которых повествует пневматология в своём высшем смысле, или всего духовного мира в целом! Если ограничиться лишь человеческим духом, чья слабость так часто становилась темой для риторических и софистических декламаций, – сколько здесь явлений: от невежества с его страхами, затруднениями, неясностями, поисками, сомнениями, колебаниями и печалями – до знания с его радостями! Через всё новые загадки совершается прогресс, который, пусть и оспариваемый, всё же ведёт к постоянно отодвигаемым границам!
Как обширен и богат также мир чувственности, где царит сама эстетика – вечно юная, нежная, прекрасная и могущественная, во имя любви к прекрасному и отвращения к безобразному, столь же неистребимых, как сама природа человечества!
А в соединении с любовью к добру и ненавистью ко злу эти чувства становятся источником величайших свершений в мире нравственном, где борьба добра и зла – самое возвышенное и непрестанное деяние. Дело каждого мгновения жизни, оно порождает для разума проблемы, а для сердца – волнения, которых не могут вызвать даже самые необыкновенные явления физического мира.
Какими бы поразительными ни были последние, они никогда не обладают магией явлений нравственных. Они не связаны так непосредственно с жизнью, с её источником, с Богом. Поэтому и не ведут к Нему столь же прямо. Дух идёт напрямую от нравственных фактов, которые находит в себе, к Сущему всех существ и провозглашает себя Его законным сыном. Материальные же факты приводят его к той же точке лишь более долгим путём.
Ибо если что-то во вселенной и является образом Божиим, то это душа человека.
Если вначале оставить в стороне вопрос о её природе и рассматривать душу по её действиям, наблюдая в человеке то, что чувствует, мыслит и желает, – мы поражаемся трём родам явлений, которые можно объединить в ощущения (или чувства), мысли (или идеи) и волевые акты (или действия). Их излучение столь безгранично, что мы вынуждены поставить их гораздо выше трёх великих явлений материального мира – тепла, света и электричества.
Если между этими двумя порядками явлений и есть сходство, то лишь в том, что, возможно, они суть одно и то же. Явления предстают в трёх различных оттенках, но все они восходят если не к единой центральной силе, то по крайней мере к единому высшему Источнику.
II. – Явления и силы в человеческом роде. Ощущение, чувства. Инстинкты, страсти
В той из духовных сущностей, которая доступна нашему непосредственному исследованию – в человеке, первая группа явлений и сил, привлекающая наше внимание, приводится в действие чувствами, которые пронизывают и оживляют весь его организм.
С этой деятельностью чувств связаны эффекты или состояния, вызванные движением нервной системы, именуемые ощущениями и глубоко отличающиеся от чисто физиологических или физических впечатлений.
Их отличительная черта заключается в том, что они как будто захватывают нас с той или иной силой.
Возникая вследствие изменений, происходящих в нашем организме, они бывают либо приятными, либо тягостными.
Способность, позволяющая нам их испытывать, – чувствительность – по своей сути субъективна, она принадлежит нам. На первый взгляд, она ограничивается осознанием того, что происходит внутри нас, но это не исчерпывает её роль, ибо она также является восприятием того, что до нас доходит, и благодаря этому последнему свойству приобретает объективный характер: она сообщает нам нечто посредством внутреннего восприятия.
Таким образом, она одновременно аффективна и репрезентативна. Как репрезентативная, она даёт идею; как аффективная, вызывает переживание. Это два факта, которые следует принимать в их чистом виде. Отрицание аффективного факта привело бы к идеализму, признающему исключительно идеи и объявляющему наши ощущения воображаемыми; отрицание репрезентативного факта ввергло бы в сенсуализм, признающий лишь ощущения.
Ощущения подразделяются на:
– внешние, причиной которых служат впечатления, условием – организм, а отличительной чертой – локализация;
– внутренние, у которых нет ни той же причины, ни того же условия, которые менее локализованы, но всё же связаны с организмом – будь то случайные (как раны) или периодические (как голод и жажда).
Какой бы природы они ни были и как бы их ни испытывали, их невозможно ни описать, ни определить. Они неисчислимы и бесконечно варьируются в рамках индивидуального существования в зависимости от возраста, пола, климата, воспитания, нравов и общественных устоев.
Внутренние восприятия и интеллектуальные концепции сами сопровождаются аффективными эффектами или состояниями, сходными с ощущениями, которые называют чувствами.
Чувства, хотя язык и мысль часто смешивают их с ощущениями (поскольку они, как и ощущения, воздействуют на душу и отражаются на организме), образуют особый мир.
Подобно тому как в ощущении есть два элемента – один связанный с внешней чувствительностью, другой – с внутренним восприятием, с психологическим сознанием, – в чувстве также присутствуют два элемента: один относится к внутренней чувствительности, другой – к особому восприятию, именуемому нравственным сознанием.
Действительно, как только мы испытываем чувство, мы одновременно осознаём этот факт и воспринимаем его как хороший или дурной, заслуживающий или недостойный, и вследствие этого ощущаем удовлетворение или сожаление.
Чувства вызываются не физическими впечатлениями, а идеями и относятся не к телу, хотя могут сопровождаться внутренними ощущениями. Они ещё более разнообразны, чем ощущения, и обладают не меньшей поразительной силой.
Чтобы дать хотя бы некоторое систематическое представление об их богатстве, предлагалось разделять их согласно трём категориям – истинного, прекрасного и доброго – на:
– ноологические (связанные с разумом),
– эстетические,
– этические.
Первые далее подразделялись на телеологические и логические, последние – на моральные и юридические, и аналогично можно было бы разделить вторые. Однако, во-первых, термины этих классификаций противоречат друг другу; во-вторых, вместо того чтобы охватить всё многообразие наших чувств, эти деления лишь сужают их неизъяснимо богатый перечень.
Роль этих явлений огромна во всей духовной жизни, а способность, их порождающая, состоит в том, чтобы стимулировать все силы нашего существа, оказывая им поддержку и помощь в той же мере, в какой сама получает от них содействие и опору. Лишенные ее, мы, будучи окружены тысячами предметов, воспринимаемых множеством способов через органы внешнего чувства, могли бы все замечать, но, оставаясь чистым духом, не испытывали бы ни радости, ни страдания ни по какому поводу. Ничто в мире не вызывало бы в нас влечения; никакое знание не пленяло бы нас, никакая добродетель не трогала, а без эмоций ничто не приносило бы ни удовольствия, ни боли. Все впечатления оставляли бы нас равнодушными; благо не сопровождалось бы удовлетворением, зло – сожалением. Существо, устроенное так – не побуждаемое, не предостерегаемое, не отталкиваемое, – перестало бы быть нравственным и ничем не дорожило бы, ибо без чувствительности не существовало бы всего, что составляет счастье в настоящем и будущем. Не было бы и самой жизни, ибо так жить – значит не жить.
Благодаря чувствительности все факты, ощущения, чувства или идеи становятся источниками радости или страдания, создают для нас предметы восхищения или страсти и побуждают к актам любви или ненависти. Именно она направляет волю к множеству вещей, делающих нас тружениками, поэтами, ораторами, воинами, законодателями, философами, священниками. С ней мы не можем не желать – и желаем непрестанно; мы ищем всегда и волнуемся во всех направлениях. Ибо мы стремимся не только к благу – мы не можем не избегать зла, и один лишь страх перед ним делает нас героями. Побуждать нас через удовольствие и страдание – такова миссия чувствительности, и она объясняет большую часть трудов и свершений нашей судьбы.
Ее роль не сводится к тому, чтобы толкать нас к наслаждениям или уводить от страданий; выше всех ощущений, которые возбуждают или сдерживают нас, есть чувство, которое управляет нами. Это чувство заставляет нас принимать благо, ужасаться перед злом, восхищаться прекрасным и отвращаться от безобразного – оно регулирует жизнь и ставит ее на службу высшим замыслам. Без этого регулятора чувствительность, предоставленная чрезмерному развитию, исказила бы все наше существо и бросила бы нас через крайности во всевозможные ошибки. Даже разум не смог бы обуздать ее капризы без этого противовеса, и ее излишества были бы тем опаснее, чем более непроизвольна ее экспансия.
Масштабы чувствительности и роль чувства, призванного ее умерять, становятся понятны, когда одним взглядом охватываешь все, что она содержит из эмоций в двух противоположных сферах. К сфере радости относятся в бесчисленных формах удовольствие, желания, надежды, привязанности всех видов; к сфере страдания – столь же многообразные оттенки боли, отвращения, страха, ужаса, печали, отчаяния.
И чувствительность не ограничивается рамками, которые отводит ей теория. Напротив, ее область, расширенная природной стремительностью, повсюду соприкасается с владениями интеллекта и воли. Ибо все явления ума и воли отражаются в ней; все радости науки трепещут в возгласе «Эврика!», а все волнения героизма отзываются в «Жребий брошен!». Чтобы оценить всю ее роль, нужно обратиться к самым первичным и потому наиболее показательным фактам – к явлениям, именуемым инстинктами.
Слишком часто впадают в тройное заблуждение: смешивают инстинкты с привычками, как Локк и Кондильяк; отождествляют их с явлениями интеллекта, как философы античности и Средневековья; или сводят их к чистому механизму, как Декарт. Инстинкт же – это внутреннее побуждение, вызывающее действие непроизвольное и даже вынужденное. Присущий всей органической природе и предшествующий полному развитию органов, он у человека служит активной и разумной силе, отличной от свойств материи, которая производит, сохраняет и направляет органические существа в границах их предназначения. Власть этого побуждения не простирается дальше потребностей организма и регулярных актов жизни, но оно порождает естественные склонности или направляет душевные расположения к определенным объектам. Эти расположения, легко укрепляясь, образуют подлинные влечения – таковы инстинкты подражания и общительности, оба источника очень богатых и сильных чувств, которые прививаются к этим инстинктам, но отличаются от них и друг от друга – одни чисты, другие пагубны.
Эти врожденные импульсы и расположения, необходимые пружины нашей деятельности, сами по себе ни невинны, ни виновны; они приобретают нравственный характер, лишь изменяя свою природу, то есть не имеют его, пока остаются сами собой.
Мнения расходятся относительно природы этих первичных побудителей. Одни ограничивают их организмом, другие признают их действие в явлениях самого духа и провозглашают существование интеллектуальных инстинктов.
И действительно, мы обнаруживаем в себе духовные устремления, отвечающие насущным потребностям. Они побуждают нас, например, искать пищу для всех способностей души: ум стремится к знанию или истине, которая для него так же дорога, как свет для глаза; чувствительность тянется к эмоциям, пробуждаемым прекрасным, подобно тому как физический инстинкт влечёт вкус к определённым яствам; наконец, воля склоняется к добру и справедливости так же естественно, как слух – к гармоничным звукам, которые его пленяют.
Таким образом, можно говорить об инстинктах души, подобно инстинктам тела, ведь дух жаждет истины, вкушает прекрасное и избирает добро. И если душа инстинктивно предпочитает всё это, то лишь потому, что это сопряжено с радостями и удовлетворением, подобными тем удовольствиям и прелестям, которые испытывает организм, инстинктивно выбирая то, что для него полезно и здорово.
Инстинктивные устремления – эти самые загадочные проявления жизни в её истоках – сначала порождают склонности, затем влечения, из которых рождаются привычки, глубоко изменяющие наши изначальные наклонности и способности.
Действительно, привычки притупляют физическую чувствительность, смягчают самые тяжёлые лишения, ослабляют самые яркие наслаждения, делая нас к ним равнодушными, даже подчиняя нас им.
С другой стороны, они усиливают остроту чувств и увеличивают мощь наших способностей. Чувства и ощущения, впечатления и душевные движения – всё, что относится к области инстинктов или подвержено врождённым склонностям, – испытывает их влияние и изменяется под их властью в той мере, в какой мы это допускаем.
Эта власть, часто деспотичная, не является естественным правом; и если мы не господа своим инстинктам, то, по крайней мере, их управители. Но как только в дело вступают привычки, борьба становится серьёзной.
Действительно, чувства, превратившиеся в привычки и ставшие постоянными, создают для нравственности и счастья человека самое серьёзное и заслуживающее внимания состояние.
Ощущения, все чувства чрезмерного развития – это страсти. И душа целиком становится их вместилищем; они изливаются из неё живыми, мощными и непрерывными, возвышенными и благородными или низменными и вульгарными, в нескольких чётко различимых направлениях. Их можно разделить на два класса:
1. Ощущения, связанные с организмом, его питанием, сохранением и благополучием.
2. Чувства, связанные с душой, её питанием, поддержанием её нормального состояния и её благополучием.
Чисто физические страсти привязываются к внешним предметам: одежде, пище, напиткам – и отдают своих жертв во власть всех соблазнов и обманов чувственности.
Смиренно-практические страсти скромно стремятся к полезному, выгодному, комфортному, включая все виды роскоши и благосостояния.
Общественные страсти привязываются к семье, родине и человечеству.
Эстетические страсти ищут всего, что радует утончённый или простой вкус: красоты природы или искусства, литературы.
Интеллектуальные страсти воспламеняются от красоты науки, очарования идей. В этом случае их можно назвать философскими страстями.
Этические страсти имеют своим предметом нравы и наслаждения добродетелью.
Религиозные страсти обращены к самому Богу.
Возникнут ли в нас когда-нибудь новые, ещё неведомые страсти? Страсти необходимы – Бог желает их для Своих целей. Но известных, кажется, достаточно.
Заметьте, речь идёт о способности вообще, а не о частных проявлениях и излишествах. Если бы не было способности к страстям, не было бы и чувствительности – наступило бы равнодушие, то есть нравственное самоубийство.
Но если способность к страстям необходима, то излишества любой из них – нет.
Излишества не нужны ни в одной.
III. Явления и силы мысли или разума: восприятие, концепция, рассуждение, интуиция, созерцание, экстаз, ясновидение и т. д.
Говорят, что разум – это способность познавать вещи, сравнивать их, различать, судить о них прямо или косвенно, и правильно так подробно описывать эти действия, которые трудно определить абсолютно.
Слово «разум» (intelligence) стало обозначать способность познавать благодаря тому, что она может постигать внутренние факты непосредственно, самой собой, а внешние – опосредованно, через организм. Она собирает и накапливает, так сказать, множество фактов, отбирая и сохраняя то, что ей подходит.