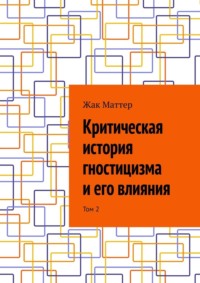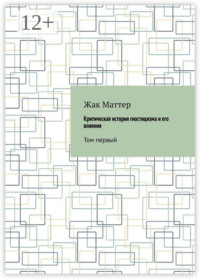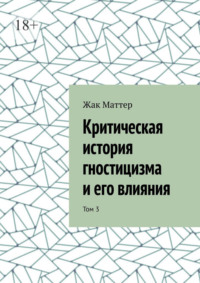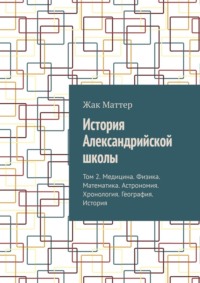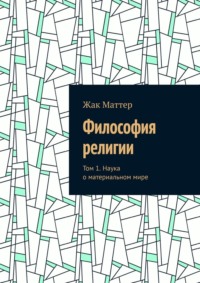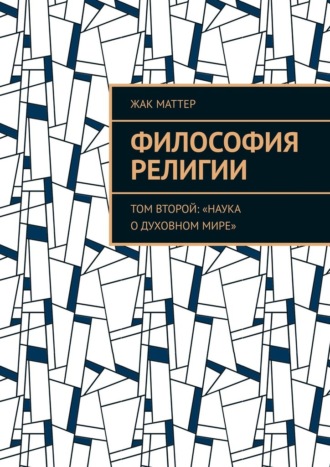
Полная версия
Философия религии. Том второй: «Наука о духовном мире»
Эту способность называли также *рассудком* (entendement), потому что она направлена на вещи и проникает в них; *мышлением* (pensare), потому что она их «взвешивает»; *разумом* (raison), потому что она анализирует и осмысляет их.
Каждое из этих слов выражает одну из основных операций духа.
Разум охватывает их все, но он не есть сам дух. Нельзя отказать животным в некоторой степени разума, но им не приписывают ни мышления, ни рассудка. Ребёнок, у которого уже есть разум и мышление, ещё не обладает рассудком.
Мышление – это не вся совокупность явлений и интеллектуальных способностей, как ошибочно полагают. Оно – работа, функция разума.
Разум (raison) – это разум (intelligence) в его высшем проявлении, постигающий:
– в случайном – необходимое (то, что не имеет причины своего существования в себе самом);
– в конечном – бесконечное;
– в несовершенном – совершенное;
– в относительном – абсолютное (то, что имеет свою причину или основание в самом себе).
Это поразительный факт, возвышенная привилегия – то, что мы ставим антитезис рядом с тезисом, например, безграничное рядом с пределом. Мы говорим, что это закон мышления.
Откуда он берётся? Это врождённое знание, творческая сила, наша интуиция или же божественное озарение?
Нам часто говорят, что это результат непосредственного абстрагирования или рациональной интуиции, которая включает понятие причины – этот краеугольный камень философии. Это тезис.
Разум понимается и в другом смысле: как разум (intelligence) в своём праве управлять. Действительно, мы не говорим, что страсти подчинены разуму или мышлению, но говорим, что они подчинены рассудку (raison). Человек, полный разума (intelligence), и человек, полный рассудка (raison), не обязательно различаются, но могут различаться существенно.
Нужно признать, что рассудок – высшее выражение разума, но это не повод превозносить или отвергать его больше, чем другие способности; возможно, это повод тщательно его развивать и внимательно за ним следить. Если к нему относятся с большим недоверием, то потому, что его слишком возвеличивали и слишком компрометировали, применяя к операциям, выходящим за его пределы. Будучи возвышенным развитием общей способности, он реже, чем другие, пребывает в нормальном состоянии и никогда – в идеальном.
Если взять его в наивысшем совершенстве, нам так же легко его превознести, как и легко опорочить, взяв в крайнем упадке.
Игра разума столь поразительна, его жизнь столь активна и богата, проявляясь в бесчисленных операциях, что их разнообразие не поддаётся описанию. Все эти операции взаимосвязаны, но сильно варьируются, особенно в утончённых или энергичных душах.
Существуют два основных вида восприятия, из которых все остальные являются лишь производными: это внешнее восприятие и внутреннее восприятие.
Внешнее восприятие, возникающее в результате воздействия на органы чувств, часто называют общим термином «ощущение», хотя оно даёт нам подлинные восприятия, так как впечатления становятся ощущениями лишь тогда, когда осознаются. Оно часто подвергается сомнению. Относительно связи человеческого ума с физическим миром выдвигают то же возражение, что и относительно связи самого Бога с этим миром. Говорят, что восприятие материального объекта интеллектуальной способностью невозможно, что это чистая иллюзия. «Подобное может быть познано только подобным», – утверждает школа Декарта. Следовательно, тело не может воздействовать на душу, а душа – на тело. И именно из-за этой мнимой невозможности прибегают к самым странным гипотезам – таким, как «видение в Боге» (согласно которому мы видим объекты не в самой природе, а в Боге) или предустановленная гармония (по которой Божественная сила вызывает в нас идеи, соответствующие впечатлениям от объектов). Согласно Беркли, «ум может познавать только самого себя и, в себе, только свои идеи». Юм, развивая этот идеализм в систему абсолютного отрицания, утверждает, что мы не только познаём лишь свои идеи, но и что эти идеи – всего лишь образы объектов; следовательно, мы познаём только образы, и у нас нет никакой гарантии их достоверности.
На эти эксцентричные теории наука ответила своим прогрессом и верой в себя.
Внутреннее восприятие, менее оспариваемое, происходит непосредственно. Для этой операции интеллекту не нужны посредники или органы; единственным условием является сознание, необходимое и для внешнего восприятия.
Сознание – особая деятельность интеллекта, общее условие всех остальных, – это ощущение активности «я» во всех его функциях. Его иногда смешивают с восприятием, поскольку оно всегда с ним связано. Однако это разные вещи. Мы воспринимаем объект, но осознаём, что являемся субъектом этого восприятия. Восприятие схватывает любой материальный или нематериальный объект, внешний или внутренний; сознание же схватывает только себя и в себе – лишь субъекта. Оно раскрывает нам не всё явление, а только участие в нём «я». Тем не менее, когда говорят, что идея, которую мы не осознаём, была бы мыслью, которую мы не думаем, то есть ничем, – это ошибка. Такая идея – это мысль, не сопровождающаяся ни чувством её важности, ни даже ощущением её присутствия; но это всё же мысль. Очевидно также, что сознание – это деятельность, подчинённая мышлению; оно не сама мысль, а её отражение или образ: если ничего не происходит в одной, другая ничего не отражает. Часто даже образ бывает слабым и бледным, и эта бледность, эта слабость иногда обратно пропорциональны яркости или силе мысли. Ибо чем выше поднимается мысль (например, до созерцания вечных истин, где она озаряется и вдохновляется небесным светом), тем менее доминирует чувство «я» и тем больше сознание личности растворяется, поглощённое трепетом восторга, уносящего нас от самих себя.
Не будем забывать, что сознание – лишь свидетель способностей, посредством которых душа поддерживает связь с идеальным миром; что не через него, а через разум и чувство осуществляются все эти отношения. Когда говорят, что сознание непогрешимо, это верно: оно фиксирует лишь то, что происходит; но происходящее далеко не всегда совершенно – ни в мысли, ни в чувстве.
Восприятие – чрезвычайно плодотворный акт. Оно развёртывается или преобразуется в ряд других операций, направленных либо на усвоение новых идей, либо на систематизацию уже усвоенных. Если за ним следить с интересом, оно становится вниманием; если направлять методично – наблюдением; если анализировать, разделять и выделять одни признаки за счёт других, представляющих особый интерес, – абстракцией. Сравнивая и распределяя объекты с общими признаками по видам, родам, классам, семействам и порядкам, оно становится классификацией. Если же оно вяло и воспринимается с безразличием из-за рассеянности или разделённого внимания, то превращается в рассеянность. Когда же оно сосредоточено на общих признаках нескольких частных идей, исключая все остальные, это – обобщение, которое, создавая идеи, называемые в старой философии универсалиями или предикабилиями, в некотором смысле изучает план мироздания и его законы. Ибо оно выявляет сходства, обнаруживает порядок среди кажущегося хаоса и находит единство в многообразии.
Из этого первого ряда элементарных операций выделяется второй, цель которого – дальнейшая работа: надёжно сохранять наши приобретения и воспроизводить их по первому требованию или даже спонтанно.
В этот ряд входят память, задача которой – сохранять и вспоминать прошлое; ассоциация идей, которая объединяет и группирует все, что доступно интеллекту; воображение, задача которого – создавать из данных элементов; концепция, которая является не только идеей, возникающей в результате восприятия, но которая постигает или создает абсолютные идеи интуитивного разума; реконцепция, которая является новой концепцией идей, собранных и задуманных ранее, и которую часто путают с памятью и воображением, которым она служит всеми своими средствами и которые предоставляют ей свои.
На самом деле все способности и все операции связаны между собой. Будучи всего лишь одной способностью и одной операцией, взятыми в разное время, они постоянно пересекаются, помогают друг другу и сливаются. Есть и такие, которые, ставя себя на службу другим, становятся неузнаваемыми или, по крайней мере, игнорируемыми под своим настоящим именем. Таково воображение, этот источник столь великолепных явлений, у которого есть три основные функции: одна – продуктивная, формирующая картину фактов, которые оно доносит до сознания; другая – репродуктивная, воскрешающая восприятия в памяти или без нее; третья – конструктивная или поэтическая, объединяющая ситуации и события достаточно оригинальным образом, чтобы называться то дураком дома, то создателем самых прекрасных шедевров. Воображение так же легко отличить от памяти, как и от ассоциации идей. Последняя невольно связывает идею с идеей по реальному и ясно ощущаемому сходству или по какой-то случайной аналогии и скрытой связи в вещах: первая также невольно сохраняет то, что остается ей верным; тогда как воображение добровольно накладывает образ на образ с полной свободой, наслаждается играми, полными бессвязности или настоящих нелепостей, и часто очаровывает тем сильнее, что, кажется, насмехается даже над собственным темпом. В новой группе операций, вытекающих из восприятия, анализ детально анализирует наблюдение, разбивая все факты, рассматривая их один за другим и останавливаясь на каждом из них, пока не увидит все. Синтез, напротив, рассматривает эти детали в целом, охватывает отношения, которые их связывают, перекомпонует и объединяет их с блестящей силой интуиции и конструирования. Это настолько верно, что интеллект выполняет логический анализ и синтез в науках о рассуждениях с той же легкостью, с какой он выполняет эмпирический анализ и синтез в науках о наблюдениях. И хотя эти два процесса протекают в противоположных направлениях, они постоянно объединяются и сливаются. Дедукция выводит из восприятия все, что фундаментальное наблюдение содержит из второстепенных фактов, выводит следствия из принципа и от общего переходит к частному, от рода к виду, от вида к индивидам. Индукция, более широкая по охвату, поднимает конкретные истины до уровня общего принципа или закона. Акт веры в будущее, вдохновленный восприятием прошлого, или акт веры в постоянство и всеобщность законов Вселенной, его легитимность опирается на принцип, согласно которому при одних и тех же обстоятельствах и в одних и тех же веществах одни и те же следствия проистекают из одних и тех же причин. По сути, тот же принцип узаконивает дедукцию, а поскольку обе операции, основанные на тождестве фактов, имеют ценность только в силу высшего порядка Вселенной, они вместе являются прямым опровержением атеизма, поскольку показывают, что он несовместим с организацией и основными операциями человеческого разума. Ведь если мы знаем, если мы верим, то это потому, что мы верим в высшее правительство, которое руководит взаимодействием всех сил и всеми человеческими действиями. Но это еще не все. Укрепленные этой философской верой, мы с уверенностью допускаем, что развитие событий всегда будет происходить одинаково; мы верим в неизменность установленного порядка. И все же это не потому, что мы изучили будущее; напротив, мы выводим будущее из прошлого. Поэтому наш интеллект – это своего рода космическая сила, ибо, хотя он еще молод и новичок, он делает столько же индукций такого рода, сколько старый и опытный, и с такой же уверенностью. Он делает больше, и всегда с самого начала, и всегда во имя провиденциального порядка, который он признает априори, который он несет в себе.
Четыре операции этой группы играют важную роль в истории интеллекта. Анализ и дедукция больше относятся к научной жизни, к западной цивилизации; индукция и синтез – к примитивной и творческой жизни, к восточной цивилизации. Величайшие открытия – плод индукции, а самые совершенные системы – синтеза. Проницательность интеллекта и восприимчивость вещей в определенное время кажутся более значительными, чем в другое. Когда разум совершенно наивен, все происходит между истиной, которая запечатлевается в разуме в чистом виде, и разумом, который позволяет себя запечатлеть. В этом состоянии завоевания разума не полны, это правда; то, что он постигает, – это не столько абстрактные и аналитические идеи, сколько конкретные и понятные. Здесь нет философской точности, зато есть поэтическая широта. Это синтез, столь же обширный, сколь и легкий, останавливающийся лишь на природе и ее пределах. Вещи входят в сознание яркими и полными свежести, вытравленные там, как ожившие картины; идеи обладают величием, превосходящим обычные пропорции, а к сильным мыслям присоединяются возвышенные чувства. Мощные вдохновения преодолевают все границы, которые впоследствии устанавливает для себя разум, с тем большей свободой, что мысль еще не достигла состояния недоверия; потому что в эпоху этого первобытного подъема она едва ли представляет себе критику; потому что, напротив, она принимает как самоочевидное то, что кажется вероятным, и соглашается с уверенностью, не торгуясь с ней. Это скорее вера, чем наука, вера, полная тайн и загадок, не слишком заботящаяся о точности, о ценности которой она не подозревает. Но, надо сказать, если в этих истинах, которые приходят так спонтанно и с таким доверием принимаются душой, которая их принимает, есть неясность и неясность, то чувство возвышенного и божественного доминирует над легковерием в такой степени, что человек здесь, возможно, более велик, чем в любую другую эпоху развития человечества.
Действительно, привычка к анализу, который разлагает вещи на части, к наблюдению, которое устанавливает факты, к критике, которая их взвешивает, к размышлениям, которые побуждают и выводят, – все это операции, которые останавливают душу в ее естественной спонтанности, приостанавливают жизнь во всех артериях, чтобы наблюдать за ее игрой. Скованные или замороженные этими новыми мерами, идеи превращаются из возвышенных и смелых в мудрые и робкие и становятся неуверенными в себе, когда в порядке исключения поднимаются в те небесные области и божественные источники, где они жили прежде, так хорошо знакомые.
Однако есть в этой эпохе анализа и дедукции и другие достоинства. Душа, которая перестает верить, начинает понимать, даже сомневаться. Наблюдение, изучение и рассуждение создают философию. Разум, который знает себя, знает, что он делает. Разбирая и взвешивая вещи, человек не всегда находит то, что ищет; но это не его судьба – оставаться в неопределенности, и обычно, не останавливаясь на достигнутом, он спешит из своих колебаний перейти к догмам, когда не может перейти к теориям. Истинная природа его ума – двигаться от разложения к переложению, от анализа к синтезу, от сомнения к вере, от веры к уверенности, от уверенности к восхищению, от восхищения к поклонению. Это его нормальная жизнь и его духовное величие. Синтез имеет свои осадки и иллюзии, а анализ – свой скептицизм, свою холодность, свои иссушения. Когда вместо того, чтобы идти от исследования к вере и от критики к реконструкции, ум остается на дороге, потому что не знает, как занять позицию, и не уверен в себе, он падает из подвешенного состояния в бесплодие, а из сухости – в обнищание. Ибо душе нужны доктрины. Без них ее жизнь ненормальна, ее красота увядает, а сила умирает, она лишена всяких чувств, а ее нравственность исчезает вместе с верой в ее мысли. В бесконечном подвешенном состоянии сомнения разум перестает быть самим собой. В духовной жизни восприятие порождает четвертую группу явлений. Сравнение, это двойное внимание, всегда приводит к обнаружению связи между двумя идеями или между общей идеей и объектом, и это восприятие, которое является суждением, обычно следует или приводит к утверждению, отрицанию или сомнению, что является результатом полного рассуждения, какой бы сокращенной ни была его форма. Эти три операции
являются настолько неотъемлемой частью обычной жизни интеллекта, что обычно происходят без перерыва. Мы не можем видеть, не сравнивая, сравнивать, не оценивая, судить, не рассуждая. Существуют простые рассуждения, простые суждения, которые представляют собой законченные теории, науки или целые исповедания веры. Это утверждение: «Сын Божий есть Бог» – целая система теологии. И если мы не всегда выносим столь серьезные суждения, то, по крайней мере, никогда не перестаем рассуждать о своем поведении и осуждать поведение других.
Рассуждение во всей своей полноте состоит из трех терминов, но рассуждения в форме аргумента или силлогизма практически отсутствуют. Логическая или систематическая закономерность является лишь исключением и имеет второстепенное значение.
Пятая группа восприятий включает в себя две операции, которые делают для будущего то же, что память делает для прошлого: прогнозирование и гадание, которые имеют множество нюансов. Способ прогнозирования, который мы называем рациональным или философским, отличается от экстраординарного предчувствия, чудесного видения будущего, вдохновенного пророчества религиозного ордена; это всего лишь вид предположительной индукции, применяемой к тому, что может произойти при определенных предполагаемых или заданных обстоятельствах. Прогнозирование – это предположение, а память – знание. В отличие от математического расчета, который является не прогнозом, а уверенностью, прогнозирование никогда не выходит за рамки вероятности и не приобретает характер науки. Возведенное в высшую степень, оно является гаданием, но очень отличается от искусства гадания и дара чудесного прорицания. Гадание, самая блестящая из операций души в чистой области разума, относится как к настоящему, так и к будущему. Это несколько дерзкое постижение факта в сфере, которая на первый взгляд кажется неуловимой и ускользающей, постижение, сделанное с гениальностью и без двойственности процедур обычного метода. Это похоже на обобщение высших способностей разума.
Если среди поэтов гадание возвышенно, это vates fatidici, то в делах обычной жизни оно вульгарно, expectatio casuum similium. Тем не менее, ему доверяют даже там, где оно не более чем притворство, – в мантике, и там, где оно не более чем предположение, – в альманахе.
Шестая группа перцептивных феноменов состоит из медитации, созерцания и интуиции. Медитация – это очень серьезное внимание, проявляемое с большим интересом, чтобы увидеть все, что скрыто или глубоко в факте, все, что внимательный анализ может распознать в нем для настоящего, прошлого и будущего. Мы размышляем не только над великими вопросами, над темами поэзии, религии или философии; мы размышляем над тем, как мы поступали, как мы собираемся поступать, какие действия нам предстоит предпринять. В самых незначительных вопросах медитация задействует все способности нашего существа; она обращается ко всем операциям ума: воображению, памяти, ассоциации идей, суждениям и рассуждениям. Если медитацию и путают с размышлением, то она отличается от него своей возвышенностью. Медитация имеет такой масштаб, которого нет у размышлений. Созерцание идет дальше: это взгляд, глубоко устремленный на объект, достойный всяческого внимания и привязанности. Душа созерцает как памятники искусства, так и чудеса творения; но она созерцает только то, что ее поражает и глубоко трогает. Говорят, что глаз созерцает: это фигура. Созерцает не глаз, а душа. Созерцание, пусть даже разумного предмета, – это такая работа ума, что, предаваясь ей, мы вскоре оставляем чувственный мир позади и привязываемся к самым высоким идеям чистой мысли и самым восхитительным удовольствиям.
Действительно, есть идеи настолько возвышенные, что слова «восприятие», «индукция», «размышление», даже «медитация» уже неприменимы; это уже не восприятие, а восторг. Эти проблески иногда уносят душу так далеко, что она едва понимает, где находится, и опьяняют ее таким очарованием, что она чувствует безразличие ко всему, что не является непосредственной интуицией этих истин, которые наполняют ее такими яркими и глубокими эмоциями. Но чистота этих явлений зависит от духа, в котором они происходят. Каждое состояние созерцания требует особой подготовки в соответствии с его целью. Если только художественная душа обладает привилегией созерцания в сфере искусств; если для плодотворного созерцания чудес природы необходима великая наука, то наслаждения философии, религии и поэзии предназначены для поэтических, религиозных и философских душ. Остальным из нас не хватает ума, чтобы оценить это погружение конечного в бесконечное, это преклонение слабости перед всемогуществом, малости перед величием. Но история человечества свидетельствует, что в интеллектуальном строе есть свои привилегии и свои позоры; и поскольку именно эти возвышенные размышления наиболее укрепляют и возвышают интеллект, лишиться их – большое несчастье.
Созерцание – не самая высокая из этих привилегированных операций. Интуиция идет дальше: она видит то, на что смотрит другой; она знает то, чем восхищается другой. Созерцание останавливается на созерцании Бога; интуиция проникает в его душу и читает его мысли. И пусть никто не обвиняет ее в экстравагантности, не исследовав ее. Рациональная интуиция отличается от мистической. Интуиция рациональна у художника, который работает над созданным им идеалом, который он видит глазами своего разума, который как бы стоит перед ним и который преследует его даже тогда, когда он его не ищет. Интуиция остается рациональной в области поэзии, философии и религии, пока она является взглядом разума, а разум осознает идею, которую он задумал, которую он видит. Она становится мистической лишь в той мере, в какой выходит за пределы того, что имеет право видеть во имя разума, когда переходит в область иллюзий, граничащих с галлюцинациями. В басне о Пигмалионе эта чрезмерность показана гениальным образом. Поэт, который не останавливается на зачатии и созерцании своего идеала, который не довольствуется даже прямой интуицией, но придает реальность своим вымыслам, дает жизнь и речь своим героям, видит их вместе с собой и радует свое сердце прелестями их торговли, находится где-то между этими двумя царствами.
Руссо в своих «Признаниях» рассказывает о превращении своих концепций в интуицию так, что это представляет интерес для филсофского читателя.
В нормальном состоянии интеллекта все его операции совершаются с легкостью, и все они ведут к истине, которая есть лишь реальность вещей. Тот, кто создал их, создал также человеческий
интеллект и законы, которые им управляют, истина является для нас естественным или божественным правом; но это право не является абсолютным, как и обладание им не является немедленным.
В том, как человеческий разум осуществляет свои операции, проявляются бесконечные нюансы, в зависимости от степени его слабости или силы, от полученного им образования и влияния, которому он подвергся. Между талантом, который является лишь определенной степенью способностей, и гением, который сочетает в себе ясность с наибольшей глубиной и наиболее полным диапазоном восприятия, существует бесконечное множество нюансов проницательности, тонкости, проницательности и оригинальности. Попеременно возвышенные и тонкие пути гения не могут быть обозначены вульгарными правилами. Его творения не начинаются там, где кончаются правила, но охотно пересекают их границы, становясь свидетелями последней группы операций, где восприятие уже не имеет никаких известных правил, и которая состоит из предчувствия, второго зрения и ясновидения.
Предчувствие – это смутное и таинственное предсказание, которое не обладает ясностью, присущей обычным или пророческим видениям, но часто имеет уверенность обоих.
Второе зрение – несколько локальное явление, свойственное Шотландии, Швеции и Швабии: это способность видеть будущее и расстояние без помощи тела. Но вера в эту способность, некогда широко распространенная в первом из трех названных регионов и разделяемая в хорошие времена самыми выдающимися людьми, например, доктором Сэмюэлем Джонсоном, теперь в значительной степени утрачена и, похоже, однажды может исчезнуть совсем.
Ясновидение – одно из состояний сомнамбулизма. Это не второе зрение, а прямая интуиция духа, возникающая в результате своеобразного блуждания, свободного от границ пространства и влияния тел. У него тысяча нюансов и тысяча претензий. Если для одних оно просто переносит органы чувств, то для других – дух. Другим она позволяет видеть то, что происходит вдали и за пределами земного шара, или даже торговать с духами на нем, без экстаза, восторга или сомнамбулизма, в состоянии совершенного бодрствования.
Покажет ли однажды опыт, что душа действительно обладает необыкновенной силой восхождения, способностью, которая освобождает ее от препятствий, связанных с местом и узами тела, и переносит ее в другие области, показывая ей то, что невидимо для нас в обычном состоянии; словом, позволит ли она нам прикоснуться к тайнам, до сих пор едва различимым для глаз веры?
В качестве доказательства того, что у нас есть «я», превосходящее обычное «я», можно привести один необычный факт. Один современный философ, возможно, слишком сильно верящий в это, однажды сказал, что в сознании есть два «я», которые видят друг друга объективно и говорят друг о друге, как если бы они были двумя разными личностями: одно в состоянии кризиса (животный магнетизм или искусственный сомнамбулизм), другое – в обычном состоянии. В состоянии кризиса субъект говорит о себе в третьем лице, как ребенок, который еще не обрел эго-сознание. Когда обычное состояние возвращается, все воспоминания о кризисном состоянии исчезают, и сознание возвращается в ту точку, где оно находилось до кризиса (Bautain, Psychologie, II, 109). Это различие двух «я» и подчинение одного другому было бы доказательством того, что в определенных ситуациях, например, в частичном сне, душа уже обладает способностями, которых она не имеет в обычном состоянии. Верно то, что во сне душа часто обладает необычайной силой интуиции, что она с удивительной ясностью видит известное и неизвестное, реальность и вымысел, или, если хотите, свои собственные творения.