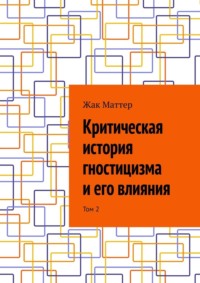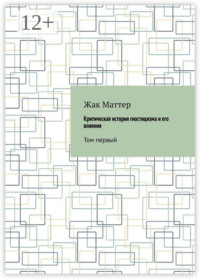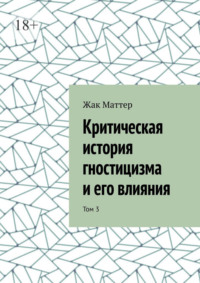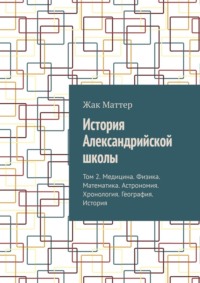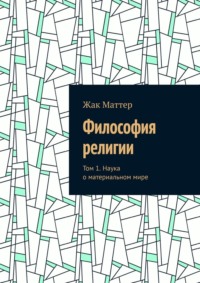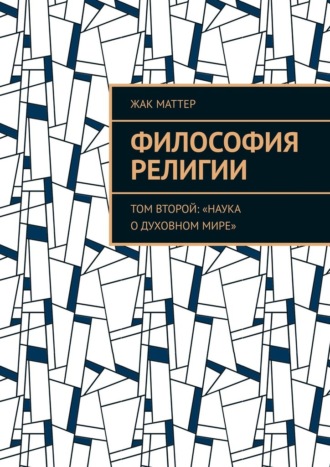
Полная версия
Философия религии. Том второй: «Наука о духовном мире»
Чистый факт прост. Наши способности или наши силы, как и силы всего мира, зависят от абсолютной силы в том смысле, что для существования духовного мира необходима творческая причина, а для функционирования духа – движущая причина.
Что же является первой из этих причин?
В этом вопросе нет никаких сомнений.
А какова вторая?
Здесь-то и начинается разнообразие наших решений, которые мы, естественно, ищем в явлениях человеческого существа.
Что в нашем духовном существе является движущей причиной, благодаря которой оно функционирует? Чувственность ли это, инстинкты ли это, или высшая причина?
Это не может быть ни чувствительность, ни то, что мы называем инстинктами, поскольку невозможно, чтобы то, что еще не действовало, вдруг начало действовать спонтанно, в силу собственного импульса.
Следовательно, это происходит в силу посторонней причины, в данном случае – высшего импульса. Но как далеко простирается это действие и каков его предел? Ограничивается ли оно первобытным импульсом, общением бытия и жизни, или же оно продолжает свое действие? И остается ли это действие постоянным до такой степени, что в конечном счете составляет нашу жизнь и творит наши дела?
В первом случае мы – существа, во втором – машины.
Являемся ли мы таковыми во втором случае?
Первое существо, – говорит Фенелон, – является причиной всех изменений своих созданий. Действие следует за бытием, как говорят философы. Существо, зависимое по сути своего бытия, не может не быть зависимым во всех своих операциях. Принадлежность следует за главным. Поэтому автор сущности бытия является также автором всех модификаций или способов бытия существ. Так Бог является реальной и непосредственной причиной всех конфигураций, комбинаций и движений всех тел во Вселенной. Именно через одно тело, которое он привел в движение, он приводит в движение другое; именно он все создал и именно он все творит в своем творении; и воля является модификацией воли, так же как движение является модификацией тел. Скажем ли мы, что он является реальной, непосредственной и полной причиной движения всех тел и что он не является в равной степени реальной и непосредственной причиной доброй воли воль? Будет ли эта модификация, самая прекрасная из всех, единственной, которую Бог не внесет в свое произведение, и что произведение даст себя независимо? («О существовании Бога», с. 113.)
Действительно, когда в физическом мире мы видим, как падает яблоко, мы формулируем из этого факта силу притяжения и закон природы, в силу которого все должно быть притянуто им. Мы добавляем, что эта сила творения, на которой мы специализируемся, есть не что иное, как общая или центральная сила, и мы знаем, что эта сила не сама по себе и не для себя, что, напротив, она подчиняется общему, абсолютному и верховному закону. Наконец, мы знаем, что этот закон есть не что иное, как закон Творца, и что закон Творца есть не что иное, как Его воля.
Но, во-первых, мы не говорим, что Бог не наделил природу собственными силами и не наметил для нее курс, по которому она должна следовать.
Во-вторых, мы проводим огромную разницу между движениями материального и духовного мира, поскольку провозглашаем одно несвободным, а другое – свободным.
Таким образом, аргумент Фенелона порочен как в своей основе, так и в своих выводах. Несомненно, между жизнью духовного мира и жизнью его автора нет никакого решения, но есть различие. Одно проистекает из другого, и одно существует только потому, что другое желает, чтобы оно существовало. В игре человеческих способностей чувствительность и инстинкты являются движущими причинами, не будучи первопричинами, causa sui; они – силы, приводимые в действие высшей силой, но они – силы самостоятельные, составляющие собственную жизнь.
Из инстинктивных фактов проистекают склонности, из склонностей – наклонности, из наклонностей – привычки, из привычек – страсти, из страстей – дела. Все, таким образом, возникает из наших инстинктов, автором которых является Бог; ведь инстинкты, в конечном счете, и есть природа. И, преувеличивая, как это делал Фенелон, мы можем дойти до того, что скажем: наша природа – это творческая сила, продолжающая свою работу в порожденном ею существе, ведущая его одного к развитию и концу.
Но значит ли это, что именно Бог творит наши дела, Бог вдыхает наши страсти, Бог подбирает наши привычки, Бог проверяет наши наклонности и Бог желает наших наклонностей? Но тогда что мы называем моральным существом, и в чем смысл этического закона, и разума, и свободы, и ответственности?
Мистические декларации никогда не бывают хорошими; они простительны на страницах благочестия, но не терпимы в труде по доктрине.
Истина, которая доминирует во всех серьезных теориях о единстве и разнообразии сил в духовном мире, заключается в том, что в начале мы находим высший разум как движущую причину, а во взаимодействии всех движений – как закон и провидение.
Близость отношений здесь также основана на сходстве атрибутов и природы существ.
Глава III. Природа и существенные атрибуты духовных существ
I. Трудность проблемы
На первый взгляд может показаться, что эта проблема крайне сложна из-за ограниченности наших средств для её решения. И хотя в обыденном смысле верно говорят, что мир духов закрыт для нас, у нас всё же есть два источника законных умозаключений о природе и атрибутах всех разумных существ: познание Бога и познание человека.
Во-первых, то, что мы знаем о природе и существенных атрибутах Бесконечного Существа, необходимо применимо – в той мере, в которой конечное может отражать бесконечное – ко всем духовным существам, которые Его отражают.
Во-вторых, если земной шар служит отправной точкой для изучения материальной вселенной, частью которой он является, то человеческий дух служит нам отправной точкой для изучения духовного мира, частью которого он также является. Конечно, этот принцип позволяет делать лишь умозаключения, но мы не выходим за их пределы и в других случаях. И даже не зная всех семейств духовного мира, можно убедиться, что для каждого из них самым важным вопросом (после вопроса об общем и высшем типе всех существ) является вопрос о его собственном состоянии.
Таким образом, природа человека – для нас главный вопрос пневматологии, и он же не самый простой. Подобно тому, как его способности угадываются лишь через явления, его природа угадывается лишь через его существенные атрибуты. Именно у них следует искать великую тайну.
II. Существенные атрибуты души
Как мы сказали, способности указывают на атрибуты. Рассматривая последнюю из трёх – волю, – мы увидели, что она, представляя душу полнее других, обладает большей спонтанностью, единством и тождественностью. Здесь мы подошли к трём главным атрибутам, трём фундаментальным способам бытия, которые составляют жизнь души, взаимодействие её способностей и являются их основой или условием: активность, единство и тождественность. Это атрибуты самого Абсолютного Духа, и невозможно представить себе моральное и интеллектуальное существо без них.
Единство – столь же фундаментальный атрибут человеческой личности и всего, что в ней происходит, как и божественной личности и всего, что в ней совершается.
Как и Высший Дух, человеческий дух прост и несоставлен; он не двойствен и не множествен. То, что в нём происходит, случается не то в одном, то в другом, а только в одном. Его правильное управление зависит от этого, и оно тем совершеннее, чем ему приходится управлять лишь самим собой.
Его тождественность – условие его ответственности, и этот атрибут так же легко понять, как он и необходим; ведь проще представить душу без мыслей, чувств или воли, чем представить, что завтра она станет другой, а послезавтра – третьей.
Наиболее интересный для изучения среди трёх атрибутов нашего духа – активность. Она подвержена нарушениям и даже временному прекращению, тогда как единство и тождественность, будучи неизменными, мало заметны для обычного наблюдателя (который и не является таковым). Активность, о которой – как и о воле – говорят, что она «почти весь человек» (часто смешивая её с этой способностью), на самом деле далека от этого, ибо она лишь творческая сила, спонтанная жизнь; она не есть ни обдумывание, ни решение, ни мысль.
Говорят: «Лишите душу активности – и вы превратите её в машину». Ведь если она больше не способна приводить себя в действие, переходить от одного движения к другому, отвечать на впечатления, получаемые со всех сторон или которые она сама ищет, то это уже не истинная жизнь, не истинная сила; в ней больше нет спонтанности, ничего, кроме того, что вкладывает в неё высшая сила, управляющая ею. Это ещё не смерть, но это – вынужденная активность странного механизма, служащего другой силе, другой воле.
Безусловно. Но лишите человека единства – и вы почти превратите его в машину; лишите его тождественности – и вы уничтожите его. Тогда пришлось бы сказать, что «тождественность» или «единство» – это почти весь человек. Очевидно, такие преувеличения несостоятельны.
Человеческая деятельность – это столько же воля, сколько и личность, настолько спонтанная, что функционирует без усилий, движется сама собой, использует свои способности и наслаждается жизнью бесконечно и безмерно. Она есть не что иное, как сама жизнь, та сила, тот источник, из которого непрерывно изливается всё, что происходит в нас и что через нас выходит вовне. Она далека от прерывистости – она постоянна. Она может приостановиться и даже, казалось бы, угаснуть, но не может исчезнуть, ибо это жизнь духа.
В этой жизни можно выделить три различных состояния:
1. Когда дух имеет ясное и отчетливое самосознание,
2. Когда он не обладает этим сознанием,
3. Когда он вовсе не осознает того, что в нем происходит.
Если бы первое состояние длилось вечно, деятельность, будучи постоянной, всегда была бы очевидной, и душа знала бы, что она действует, чувствует, мыслит и всегда чего-то желает – знала бы, что желает с различной степенью интенсивности. Ибо мы то пребываем в сильном возбуждении, в крайне энергичной деятельности, применяя все свои способности с великим напряжением ума и пламенной порывистостью сердца, то оказываемся в странном покое, под обаянием беззаботности, когда наши мысли текут плавно, когда, словно истинные вельможи, мы едва удостаиваем свои мысли внимания и так мало заботимся о том, что в нас происходит, что делаем вид, будто не замечаем этого.
Но это состояние сознания с весьма заметными колебаниями длится не всегда. Бывают состояния духа, когда мы действительно не осознаем, что в нас происходит, когда мысль будто замирает, чувствительность, обычно ее пробуждающая, притупляется, а воля становится равнодушной. В летаргии, обмороке и других подобных состояниях всякая деятельность, кажется, прекращается – и всё же в духе ничто не умирает: ни мысль, ни чувство, ни воля. Всё это – его жизнь, и во всём жизнь в нем сохраняется. Ибо если бы она уходила, после каждого такого кризиса потребовалось бы новое воскрешение или сотворение заново. Сколько же тогда было бы таких творений и воскрешений, учитывая, сколь часто дух переживает подобные затмения! Но жизнь не затрагивается ими; его способности лишь стеснены или приостановлены – они не уничтожены. Более того, есть основания полагать, что их действие не прекращается абсолютно даже в летаргии и обмороке, ибо существуют иные состояния, когда в нас также происходят вещи, которые мы не осознаем ясно, но которые оставляют в нас поучительные воспоминания и которые, благодаря глубокой сосредоточенности, мы порой можем восстановить с поразительной четкостью. Таковы оцепенение, сон, полудрема. При обычном перевозбуждении внимание сосредотачивается на одних внутренних процессах в ущерб другим, настолько, что мы позволяем первым проходить незамеченными с полным безразличием – и даже раздражаемся, когда нас заставляют обратить на них внимание.
Таким образом, даже в этих состояниях деятельность постоянна. Она происходит помимо нашей воли; тем более она очевидна, чем меньше мы ее желаем, и ясно, что наш дух активен вопреки нашему намерению. Это доказывает, что он не властен быть инертным, что он может ослабеть, замереть, отдохнуть до определенной степени, но не способен полностью остановиться; или, выражаясь образно, он не может бросить якорь там, где пожелает, в океане, по которому плывет. И причина тому – не ветры и не бури, а perpetuum mobile, провиденциально установленное в нас, то есть эта череда то мягких, то бурных возбуждений, порождающая череду соответствующих действий, и если проследить их ход полностью, то можно обнаружить в деятельности души множество градаций, но ни малейшей прерывистости.
Что касается принципа или причины этой постоянной деятельности, то возникает соблазн просто принять некий принцип активности. По крайней мере, на первый взгляд кажется странным утверждать, что лучше всего активность объясняет ее противоположность – пассивность. И тем не менее это так. Только пассивность – не противоположность активности. Подвергаясь воздействиям, впечатлениям, ощущениям всякого рода, душа, несомненно, пассивна и испытывает влияния, но способность воспринимать их – это положительное качество, а не отсутствие свойства, не негативное состояние.
В самом деле, душа никогда не останавливается на том, чтобы просто позволять воздействовать на себя. Это она сама подвергается воздействию, сама определяет испытываемые эффекты, сама схватывает и устремляется навстречу происходящему. И именно потому, что она чувствительна, что она познает и хочет познавать, она подвергается воздействию. Следовательно, она активна в тот же момент, когда пассивна. Одновременность пассивного и активного акта настолько полна, что пассивность становится источником возбуждения. Далекая от апатии, пассивность – это свойство духа вступать во взаимодействие, благодаря которому он получает определенность. Без пассивности у него не было бы причины действовать, и на него нельзя было бы воздействовать. Как воздействовать на существо, недоступное ничему? Всё движение вселенной разбивалось бы о нас безрезультатно и бесполезно, не будь пассивности. Именно она пробуждает нас к жизни, побуждает к размышлению и бросает в действие. Пассивность есть не что иное, как восприимчивость. Активность же есть не что иное, как отзывчивость на ее призывы, и мы активны лишь в той мере, в какой пассивны.
Таким образом, пассивность пребывает в нас постоянно. Если активность приостанавливается или изменяется во сне, летаргии или обмороке, то лишь потому, что прекращается пассивность, или восприимчивость. Если же в других состояниях – будь то лихорадка, опьянение, магнитный сон, игра, война или танец – наблюдается необычайная активность, то лишь потому, что наш организм проявляет необычайную восприимчивость. Эта восприимчивость способствует активности, которая есть не что иное, как нормальная жизнь всех наших способностей.
III. – Природа души
Утверждать, что мы не знаем природу души и не можем ее познать, – значит повторять избитую истину; но, преувеличивая, мы искажаем то, что в мире имеет самые solidные основания. Конечно, мы не постигаем ее сущность или субстанцию; однако, подобно тому как мы познаем ее способности через явления, в которых они проявляются, и ее существенные атрибуты через способности, которые их выражают, мы познаем душу через атрибуты, которые ее раскрывают.
Действительно, нам дано знать об этом предмете весьма определенно – не все, что мы желали бы, но, по крайней мере, ряд существенных вещей.
И прежде всего мы знаем без тени сомнения, что душа есть неиссякаемая, непрестанная причинность, которая проявляла и продолжает проявлять себя с огромной силой энергии, постоянно порождая из себя определения более яркие, более прогрессивные, чем те, которые, казалось бы, допускает состояние науки.
Из всех определений лучше всего выражает этот фундаментальный характер, эту сущностную природу, определение Платона, называющего душу причинностью, которая сама себя приводит в движение: κίνησις ἑαυτὴν κινοῦσα (De Leg. X). Это изумительно точно и действительно указывает на все самое фундаментальное, что мы знаем о природе человеческого духа – и, возможно, любого другого. Платон не называет душу causa sui (причиной самой себя), что верно лишь в отношении Первопричины; он называет ее причиной своих движений; он даже не называет ее первой или единственной причиной всех своих движений – он лишь говорит, что душа есть творец или причина движений, происходящих в ней.
И в самом деле, она обладает способностью самостоятельно производить три порядка фактов или явлений, исчерпывающих все, что мы знаем о ее жизни. Однако она не является причиной, источником или творцом всего, что в ней происходит: не всех своих идей, не всех ощущений, не всех волевых актов.
Таким образом, человеческий дух есть относительная причинность – то есть подчиненная и согласованная. Он не является ни единственной причинностью, ни причинностью верховной; это не независимая причинность, не абсолютный властелин своих движений. Если бы человеческий дух был одновременно причиной явлений, в нем происходящих, творцом сил, которыми он располагает, и законов, которые ими управляют, – он был бы верховной причинностью, абсолютной автономией. Он был бы Высшим. Но мы так далеки от этого, что не являемся даже причиной значительной части явлений, в которых выступаем как их сцена.
Что касается тела, все важнейшие процессы в нем совершаются спонтанно, и о многих из них мы не знаем ни движущей силы, ни способа их протекания.
Дыхание, кровообращение, пищеварение не зависят ни от нашей воли, ни от каких-либо наших духовных способностей.
Мы совершенно пассивны в возникновении голода и жажды; и не только эти состояния появляются без нашего зова или игнорируют наши призывы, но они зачастую возникают вопреки нашим намерениям и дают нам почувствовать, что нами движет нечто более сильное, чем мы сами.
Большинство органических явлений непроизвольны – как, например, прекращение всей деятельности организма или сама смерть. Мы можем положить конец многим из них, но не способны вызвать их начало. Если мы и обладаем властью прекратить само существование организма, то не имеем права им распоряжаться.
Этот организм, напротив, часто обладает способностями души и имеет право распоряжаться ими согласно своим потребностям и на свою пользу. Но это право имеет свои границы: как только эти границы преступаются, духовность подчиняется избытку чувственности, душа – излишествам тела.
Управление личностью принадлежит духовности, и душа обязана распоряжаться данным ей материальным аппаратом, однако тоже в пределах, определенных общими законами. Эти законы столь широки, что предоставляют ей достаточно простора для ее деятельности; они не сковывают ее, а оставляют значительную долю индивидуальности.
То, как душа, предупрежденная, упорядоченная и направляемая, но не насилуемая этими законами, распоряжается своим организмом, составляет ее личную заслугу и подготавливает решение ее особой судьбы.
Чтобы достичь этой цели, то есть развития, к которому человек призван в силу своей природы, ему необходимо было если не полное управление всей своей личностью – телом и душой, то по крайней мере значительная доля в этом царствовании. Эта доля – свобода, право и власть распоряжаться собой. И меньшего ему было недостаточно.
Как только человек становится моральной личностью, имеет предназначение и осознает свою цель, ему необходимы средства для ее достижения. Без этих условий он не мог бы нести ответственность за свои деяния. А для того чтобы он отвечал за свою личность и за то, как ею управляет, она должна была зависеть от его свободной воли.
Но требовалось ли для этого, чтобы он был причиной всех явлений, происходящих в нем, чтобы он мог по своей воле вызывать их и прекращать, возобновлять или продлевать их течение? Разве человек находится в таком положении? Нет, его власть не простирается так далеко. Свободное распоряжение собой человек имеет лишь в определенной мере. Он не является абсолютно первым двигателем и верховным регулятором всех фактов, относящихся к его личности, по той причине, что он – не автор ни сил, которыми обладает, ни законов, которые ими управляют.
Более того, он даже не их естественный, изначальный и полный посвященный. Долгое время он не знал законов, управляющих явлениями его организма, и до сих пор имеет о них тем более несовершенное представление, чем меньше участвует в их происхождении. Их источник – в силах, которые их производят, а их человеку не дано ни создать, ни привести в действие. Тот, кто доверил их ему, сохранил за собой высшее руководство, согласно законам, которые суть не что иное, как Его мысль.
Управление нашей личностью осуществляется по воле Творца и независимо от нашей. Мы можем пользоваться своими способностями лишь с Его соизволения, соблюдая во всех действиях, в которых желаем их применить, законы их функционирования. Но в этом функционировании нам отведена доля, и в том, как мы управляем своей частью, заключается сфера свободы, личной заслуги, ответственности, нравственности. Эта доля требует, чтобы именно мы использовали их, и от ее имени мы воздействуем на этот процесс.
Но если эта доля несомненна и велика, то можно ли сказать, что она мала? Мы малы, мы – конечное, разделяющее участь с бесконечным. На первый взгляд, наша доля незначительна. Приведем пример.
Общий закон гласит, что всякая физическая способность ослабевает или утомляется и нуждается в отдыхе, чтобы восстановить свою эластичность. Что ж! Мы можем немного напрячь, немного продлить и немного изменить действие каждой из наших способностей; но если мы переусердствуем, то нарушим законы, управляющие ими, а нарушенные законы мстят.
Следовательно, несомненно, что мы не обладаем полным и безраздельным контролем над нашим организмом. И также очевидно, что для нас благо, что мы не имеем его в таком виде. Ведь даже если бы у нас было полное знание законов, управляющих им, мы не всегда руководствовались бы разумом. Если бы мы были хозяевами этих явлений, то некоторые из них мы заставляли бы сменяться без перерыва; другие, более полезные и, возможно, необходимые, мы бы постоянно отгоняли. И не только мы своевольно останавливали бы работу этой машины, но и безрассудно растрачивали бы её силы, и наши дни, которые, по нашему мнению, то слишком коротки, то слишком длинны, одни были бы поглощены и сокращены самым пагубным образом, а другие – растянуты и продлены сверх меры в состоянии бесплодной апатии или пресного прозябания.
Таким образом, хорошо, что мы не единственные, кто управляет организмом, и, без сомнения, поэтому мы и не имеем над ним полной власти. Но если хорошо, что организм не находится в нашей абсолютной зависимости, то хорошо ли также, что и духовная жизнь подвластна нам лишь до определённой степени?
Ведь мы не являемся более полными хозяевами духовной жизни, чем жизни органической. И прежде всего, главные явления души – мысли – сменяются не только без нашего вмешательства, но мы почти всегда, когда пытаемся вмешаться, достигаем противоположного тому, чего хотели.
Многие мысли, которые мы ищем с большими усилиями, не даются нам, в то время как другие, можно сказать, набрасываются на нас, сокрушают нас, чтобы удержать, подобно сильному человеку, и отпускают нас на свободу лишь после того, как выполнят свою миссию – миссию, о которой мы, кстати, чаще всего и не подозреваем. Ведь эти явления уходят так же, как и приходят, и большинство исчезает безвозвратно. Из этого следует, что мы не более способны удержать их, чем были способны избежать их появления. А те из них, которые поддаются призыву, возвращаются такими бледными и увядшими, настолько мёртвыми, что мы с трудом узнаём их. Они никогда не воспроизводятся с прежним блеском и первоначальной свежестью. Если от мыслей мы перейдём к эмоциям, которые их сопровождают, предшествуют или следуют за ними, – та же неверность. Та, что восхищала и уносила нас прочь от самих себя при первом появлении, оставляет нас спокойными при втором и холодными при третьем. Наша величайшая сила воли вызывает лишь ослабленное эхо. И ещё более ощутимое бессилие! Другие эхо сопровождаются более живым сожалением, чем мы хотели бы, или даже угрызениями совести, жало которых мы тщетно пытаемся смягчить.
Без сомнения, мы имеем больше участия в наших волевых актах, чем в ощущениях и интуициях, но и это участие – как много посторонних влияний оно постоянно испытывает, какие высшие силы встречает на каждом шагу и каким уступкам вынуждено подчиняться!
Таким образом, всё нам говорит – и психические, и органические явления, – что мы являемся причинностью лишь в определённой степени. Дух имеет прекрасные начинания, он – свободная и волевая причина множества явлений, происходящих в нём, которые не произошли бы, если бы он их не желал, если бы, по обдуманному решению и в силу своего выбора, он не принимал то или иное решение. Он – хозяин своей личности во многих отношениях: перемещает её, куда хочет, возвышает, как ему угодно, и украшает, как считает нужным. Он обогащает её трудом и учением удивительным образом или обедняет её своим бездействием до плачевного состояния. Но как бы велика ни была его роль в некоторых из этих явлений, он не является их единственной причиной; и здесь он вынужден принимать множество вещей такими, какие они есть. Из всего, что воздействует на него в течение земной жизни, в самой свободно избранной, самой искусно и решительно пройденной карьере, почти ничего не происходит по его доминирующей причинности. Везде он испытывает больше влияния, чем оказывает. В явлениях, исходящих из решения, кажущегося полностью свободным, даже из импульса, каприза, он, при ближайшем рассмотрении, всё же остаётся лишь весьма относительной причинностью. Во всём этом земном странствии каждое его движение есть образ последнего, величайшего и самого невольного из всех, в том смысле, что в каждом участвуют обстоятельства, лежащие вне его знания и власти.