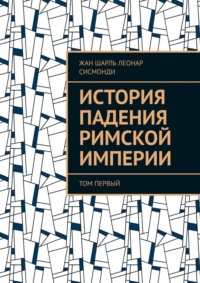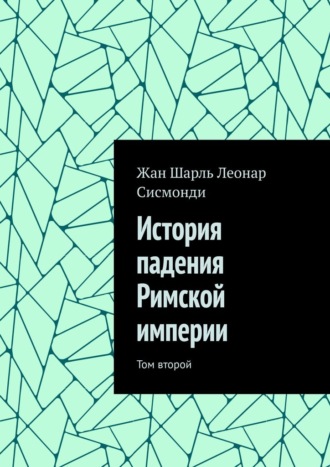
Полная версия
История падения Римской империи. Том второй
Подчинение Босры вскоре сменилось атакой на Дамаск, один из самых процветающих и удачно расположенных городов Сирии, хотя до того времени история империи едва ли упоминала о его существовании. Однако осада Дамаска привлекла внимание Ираклия, который, вернувшись четыре года назад из персидских войн, вновь погрузился в изнеженность, из которой его прежде на короткое время вывел столь поразительный порыв. Он собрал армию, которую арабы утверждали, насчитывала семьдесят тысяч человек, но сам не повел ее. Его полководцы попытались снять осаду Дамаска, и в роковой битве при Аджнадайне 13 июля 633 года судьба Римской империи в Азии была решена. Ираклий так и не оправился от поражения, в котором, как утверждают, его армия потеряла пятьдесят тысяч человек.
Падение Дамаска после осады, длившейся год; взятие Эмесы и Гелиополя (Баальбека); новая победа над греками на берегах Иеромаха (Ярмука) в ноябре 636 года – все это привело к атаке на Иерусалим, где две религии, казалось, сошлись в прямом противостоянии. Вся христианская Европа обратила взоры к святому городу, видя в местах, где Христос жил, страдал, и особенно в церкви Гроба Господня, материальные залоги торжества своей веры. В течение четырехмесячной осады религиозный энтузиазм осажденных не уступал энтузиазму нападавших: стены были покрыты крестами, знаменами, освященными священниками, и чудотворными образами. Но это рвение оказалось тщетным. Софроний, патриарх Иерусалима, руководивший обороной, был вынужден предложить капитуляцию, однако соглашался открыть ворота города лишь при условии, что повелитель правоверных, халиф Омар, лично прибудет принять этот драгоценный дар и скрепит капитуляцию своим словом.
Иерусалим, одинаково священный в глазах мусульман и христиан, казался старому сподвижнику Магомета достойным того, чтобы халиф совершил к нему благочестивое паломничество. Омар отправился в путь, но на том же красном верблюде, который вез его, властитель Аравии и большей части Сирии и Персии вез весь свой багаж: мешок пшеницы, корзину фиников, деревянную миску и бурдюк с водой. У стен Иерусалима халиф воскликнул: «Бог победоносен! Господи, даруй нам завоевание, не оскверненное кровью!»
Его палатку из верблюжьей шерсти разбили, он сел на землю и подписал капитуляцию, обязуясь оставить христианам не только свободу вероисповедания, но и полное владение церковью Гроба Господня. Затем он без опаски вошел в город, беседуя с патриархом, и, несмотря на приглашение последнего, отказался молиться в христианской церкви, опасаясь, что это станет прецедентом для его преемников, которые, следуя его примеру, тоже станут там молиться, тем самым умаляя полное право собственности, гарантированное христианам.
Он заложил фундамент великолепной мечети на развалинах древнего храма Соломона, а через десять дней в том же простом убранстве вернулся в Медину, чтобы молиться у гробницы апостола, от которой уже не отходил.
Сдача Иерусалима мусульманам относится к 637 году; Антиохии и Алеппо – к кампании 638 года. В то же время Ираклий, так и не появившийся во главе армии, тайно бежал в провинцию, которую не осмеливался защищать и уже не надеялся снова увидеть. Обманув своих придворных и солдат, он отплыл с небольшим числом приближенных в Константинополь. Его старший сын Константин, командовавший в Кесарии, также бежал, узнав об отъезде императора, а его войска под командованием Фаринея рассеялись или перешли на сторону врага. Тир и Триполи были преданы арабам, а остальные города Сирии открыли свои ворота по условиям капитуляции.
Абу Убайда, опасавшийся, что его воины предадутся удовольствиям Антиохии, не позволил им оставаться там более трех дней. Однако старый халиф, строгий лишь к себе, сожалел, что мусульмане не насладились плодами своей победы подольше: «Бог не запрещает верующим и творящим добро пользоваться благами этого мира, – написал он своему полководцу. – Вам следовало позволить им отдохнуть и разделить радости, которые дарует эта земля. Каждый сарацин, не имеющий семьи в Аравии, может жениться в Сирии, и каждый вправе покупать себе рабынь».
Однако вскоре после завоевания Сирии мусульман поразила эпидемия, лишившая их возможности воспользоваться снисходительностью халифа. Они потеряли двадцать пять тысяч воинов, включая их предводителя Абу Убайду. Халид ибн аль-Валид, «Меч Аллаха», храбрый воин, который всегда принимал командование в моменты опасности, а затем возвращал его, умер три года спустя в Эмесе.
Завоевание Персии, начатое Халидом, тем временем продолжили другие арабские полководцы. Йездигерд, внук Хосрова, взошедший на престол в 632 году (его эра осталась известной не благодаря личным заслугам, а из-за связи с астрономическим циклом), был атакован тридцатитысячным мусульманским войском. Битва при Кадисии (в 60 лье от Багдада, 636 год) решила судьбу монархии. Она длилась три дня, и арабы потеряли семь с половиной тысяч человек, но персидская армия была уничтожена, а царское знамя захвачено. Плодородная провинция Ассирия (Ирак) была завоевана, и для закрепления контроля на Евфрате, ниже слияния с Тигром (в 12 лье от моря), основан город Басра.
Полководец мусульман Саид затем перешел Тигр и в марте 637 года штурмом взял Мадаин (Ктесифон), столицу Персии. Накопленные веками сокровища были разграблены. Неудовлетворенные расположением старой столицы, победители основали новую – Куфу – на правом берегу Евфрата. Йездигерд, бежавший в горы, некоторое время сохранял остатки империи, но после череды поражений, когда он пытался уговорить мельника перевезти его на лодке через реку у границ своего королевства, был настигнут мусульманской конницей и убит в 651 году, на 19-м году своего несчастного правления. С ним пала вторая персидская монархия – Сасанидов.
Сирия и Персия были слабо защищены христианами и магами; Египет же добровольно сдали копты. Отделенные от господствующей Церкви непостижимым спором о двух природах и двух волях Христа, они предпочли власть мусульман гонениям православных. Еще при жизни Мухаммеда они вступили в переговоры с арабами, но те, впечатленные ветхозаветными описаниями могущества Египта, судили о его славе скорее по временам фараонов, чем по собственным глазам.
Халиф Омар, по настоянию храброго Амра (одного из героев завоевания Сирии), согласился на вторжение в Египет. Однако, испугавшись дерзости замысла, он послал гонца с приказом отступить, если Амр еще в Сирии, или продолжать путь, если уже в Египте. Амр, не доверяя нерешительности повелителя, вскрыл письмо лишь на вражеской земле. Созвав военный совет, он заявил, что приказ халифа (и небес) обязывает его идти вперед.
В июне 638 года, после месячной осады, сдался Пелусий, открыв сарацинам путь в страну.
Римляне перенесли центр управления Египтом в Александрию, и Мемфис – древняя столица, расположенная неподалёку от пирамид, – опустился до статуса второстепенного города. Однако его население всё ещё оставалось весьма значительным, и поскольку греки предпочитали селиться в Александрии, Мемфис оставался почти исключительно египетским, или коптским, городом.
Летом 638 года перед этим городом появился Амру, а точнее – перед предместьем Вавилон (или Мисрах), находившимся на правом берегу Нила, со стороны Аравии, тогда как древний Мемфис, как и пирамиды, располагался на левом, ливийском берегу. Осада длилась семь месяцев, и в течение этого времени Амру возобновил переговоры с монофелитскими коптами и их предводителем Мокавкасом. В обмен на полную свободу вероисповедания был установлен налог в две золотые монеты с каждого мужчины старше шестнадцати лет. Патриарх яковитов Вениамин вышел из пустыни, чтобы принести покорность завоевателю.
По всей области к югу от Мемфиса копты взялись за оружие, напали на греков и их духовенство, перебили многих и вынудили остальных бежать. Древний Мемфис наконец открыл ворота, но победоносные сарацины предпочли поселиться в предместье Мисрах, которое было ближе к их землям, и назвали его Каиром – «городом победы». Население постепенно переместилось с левого берега реки на правый, чтобы быть ближе к караванам, прибывавшим из пустыни, и древний город Сесостриса вскоре превратился лишь в город гробниц.
Завоевание Египта могло быть упрочено только покорением Дельты, куда стекались все бежавшие греки из долины Нила, и взятием Александрии – второго по населению и богатству города в мире. Действительно, порт этой метрополии, всегда открытый для греческого флота, мог беспрепятственно получать подкрепления и впускать вражеские армии в сердце страны, в то время как жители, воодушевлённые религиозным рвением и ожесточённые предательством коптов, были готовы активно поддержать гарнизон.
Амру повёл мусульман через Дельту, где его доблесть ярко проявилась в ежедневных стычках. Он осадил город, окружность которого составляла тогда десять миль, но поскольку он был защищён с одной стороны морем, а с другой – озером Мареотис, стены, подверженные вражеским атакам, имели в длину не более двух с половиной миль. Бои продолжались четырнадцать месяцев с ожесточением, какого ещё не знала история войн. Амру, схваченный осаждёнными во время вылазки, попал в плен, но не был узнан. Однако его гордый вид начал вызывать подозрения, но его раб, взятый вместе с ним, отвлёк внимание, ударив его по лицу и приказав молчать перед старшими, после чего отослал его в мусульманский лагерь, чтобы тот принёс деньги для своего выкупа. Простота первых сподвижников Пророка стирала разницу между величайшим воином и последним рабом под одинаковой одеждой, так что раб Амру легко мог сойти за своего господина.
Наконец, 22 декабря 640 года мусульмане ворвались в Александрию, в то время как греки грузились на корабли и покидали столицу Египта. «Я захватил великий город Запада, – писал Амру халифу. – Мне невозможно описать всё его богатство и красоту. Достаточно сказать, что в нём четыре тысячи дворцов, четыре тысячи бань, четыреста театров и мест развлечений, двенадцать тысяч лавок, торгующих лишь растительной пищей, и сорок тысяч иудеев, платящих дань. Город взят силой оружия, без договора и капитуляции, и мусульмане жаждут воспользоваться плодами победы».
Но благочестивый Омар не согласился на разграбление, которого, казалось, требовали. Жители были пересчитаны: все, кто остался верен своей прежней вере – будь то яковиты, мелькиты или православные, – получили, уплачивая ежегодную дань, гарантированную законами Пророка свободу вероисповедания. Число обращённых, которые, произнеся символ веры победителей, переходили из подчинённых в господствующее сословие и из бедности – к богатству, было велико в этой провинции, как и во всех прочих, и с лихвой покрывало потери победоносной армии, хотя двадцать три тысячи мусульман погибли при осаде. Тем не менее, большинство населения осталось христианским, и даже сейчас, спустя двенадцать веков угнетения, коптская церковь в Верхнем Египте и греческая в Александрии ещё не полностью уничтожены.
Без сомнения, спросят, почему я обхожу молчанием событие, более знаменитое, чем само завоевание Египта – приговор Омара относительно Александрийской библиотеки. «Эти книги бесполезны, если в них не содержится слово Божие, и вредны, если содержится что-то иное». И четыре тысячи александрийских бань топились шесть месяцев рукописями, в которых хранилось всё древнее знание вселенной.
Но эта странная история была впервые рассказана лишь шесть веков спустя Абуль-Фараджем на границах Мидии. Современные ей историки – Евтихий и Эльмакин – не упоминают о ней. Она прямо противоречит предписаниям Корана и глубокому уважению мусульман к любой бумаге, на которой может быть написано имя Божие. Кроме того, древняя библиотека, собранная благодаря щедрости Птолемеев, уже давно была уничтожена; нет никаких свидетельств, что её заменила другая.
Ираклий, переживший свою власть и славу, узнал в Константинополе о потере Александрии, но это было последним бедствием его правления: через пятьдесят дней после падения города, 11 февраля 641 года, он умер.
Во время правления двух первых халифов, отмеченного столь блистательными завоеваниями, сарацины не утратили того энтузиазма, который внушил им их пророк. Они не смешивали с этим рвением никаких личных амбиций, никакой зависти, никаких личных страстей – только стремление расширить царство Божье, направлявшее все их усилия на войну и заставлявшее их встречать мученическую смерть с такой же радостью, как и победу.
Все военачальники, рожденные в свободной Аравии, привыкшие к полной независимости духа и воли, к той энергии, которую она развивает, даже подчиняясь, не считали себя подвластными господину. Однако они не пользовались своей волей, потому что их единственное желание полностью совпадало с желанием их предводителя, и для исполнения его приказов им не нужно было покоряться.
Но Омар, хотя и моложе Мухаммеда, к концу своего правления перешагнул семидесятилетний рубеж. Все его современники, все те, кто сформировался под его руководством, уже утратили былую силу; новое поколение проникло в правительство и армию. Оно набиралось в основном из завоеванных стран и, хотя разделяло религиозный энтузиазм, питаемый и разжигаемый в больших собраниях людей, уже привнесло в ислам иной характер и иные амбиции.
Два последующих халифа, воспитанные, как и их предшественники, в близости к пророку, такие же чистокровные арабы, постоянно проживавшие в Медине, сохранили в чистоте ту пламенную веру и простоту нравов, которые он им внушил. Но если Абу Бакр и Омар, первые два халифа, согласные со своим веком, обязаны этой простоте своими блистательными успехами, то Осман и Али, следующие двое, уже не находили понимания у своих современников, сами их не понимали и внесли смуту и гражданскую войну в это простое правление.
После них, когда Муавия сменил Али, столица империи была перенесена из Медины в Дамаск; восточный деспотизм пришел на смену свободе пустыни. Фанатизм сохранился в армии, но другой принцип управления направлял осторожность Омейядов или скрывал их пороки.
На двенадцатом году своего правления Омар был смертельно ранен убийцей, желавшим отомстить за личную обиду. Халиф мог бы попытаться передать власть своему сыну или же задуматься о том, чтобы уступить место Али, сыну Абу Талиба. Тот, как представитель старшей ветви курайшитов, муж Фатимы – любимой дочери Мухаммеда, а также как получивший еще в юности титул визиря пророка, казался естественным выбором мусульман.
Но Омар не захотел брать на себя ответственность за столь важное решение: он назначил шестерых старейших сподвижников Мухаммеда, которым поручил избрание, и умер 6 ноября 644 года. Выбор этих представителей ислама пал на Османа, бывшего секретарем пророка, который, уже достигнув глубокой старости, оказался неспособен нести возложенное на него бремя.
Тем не менее, за одиннадцать лет его правления (644—655) мусульмане завершили покорение Персии, расширили завоевания в Киликии вплоть до Понта Эвксинского, некоторые их армии пересекли Малую Азию и угрожали Константинополю, другие отразили в Египте две высадки греков, а в 647 году продвинулись в Африке до Триполи.
Но всех этих завоеваний оказалось недостаточно, чтобы сохранить славу, приобретенную за предыдущие двенадцать лет. Осман, обманутый в своем выборе, преданный теми, кому доверял, напрасно расточавший казну, так и не сумев привлечь сторонников, был осажден в Медине народными жалобами. Новая секта – хариджиты – требовала полной свободы, которая, по их словам, могла подчиняться лишь вдохновению пророка, но по праву принадлежала каждому арабу и каждому мусульманину.
Армии тоже приблизились, встав лагерем в одной лиге от Медины, и потребовали от старого халифа либо восстановить справедливость, либо сложить с себя звание повелителя верующих. Стража покинула ворота города и дворца, и после некоторых колебаний убийцы, ведомые сыном Абу Бакра (братом Аиши, самой молодой из жен Мухаммеда, но той, кого тогда называли «матерью верующих»), ворвались и закололи Османа на его месте, в тот момент, когда он прикрывал сердце Кораном.
Али не был причастен ни к убийству Омара, ни Османа. Уважаемый мусульманами как любимец пророка, его зять и отец единственного потомства, оставленного Мухаммедом, он тем не менее трижды был отвергнут при избрании на пост, который считал своим правом.
После смерти Османа 18 июня 655 года все курайшиты высказались в его пользу, и Али был провозглашен халифом большей частью арабов. Но военачальники уже не желали признавать этих мирных предводителей молитв из Медины, не разделявших ни их опасности, ни их победы, а Аиша, по-прежнему ревновавшая к Али и сыгравшая большую роль в смутах предыдущего правления, подстрекала солдат отстаивать свою независимость с оружием в руках.
Али сохранил всю простоту нравов первых мусульман: во время молитвы он шел в мечеть пешком, одетый в легкую хлопковую одежду, с грубым тюрбаном на голове, держа сандалии в руке и опираясь на свой лук вместо посоха. Прославленный среди мусульман как святой, поэт и воин, как верный супруг Фатимы, пережившей своего отца всего на несколько месяцев, как отец Хасана и Хусейна, которых пророк часто держал на коленях, он не утратил своей доблести за двадцать четыре года, проведенных в покое у могилы Мухаммеда. Однако вскоре стало ясно, что его благоразумие не соответствовало его высокой репутации.
Он вызвал недовольство Тальхи и Зубейра, двух храбрейших арабских вождей, которые подняли против него знамя восстания в Мекке, захватили власть в Басре и Ассирии и призвали Аишу в свой лагерь. Али двинулся против них к стенам Басры. Произошла жестокая битва, в которой он имел численный перевес, но сражались две армии, в одной из которых был зять, а в другой – вдова Мухаммеда. Аиша, проехав по рядам, остановилась в закрытых носилках, которые нес верблюд посреди схватки. Семьдесят человек были ранены или убиты, ведя этого верблюда, и именно он дал название первой битве мусульан в их гражданской войне – «Битва верблюда». Али одержал победу, а плененная Аиша была с почестями возвращена к гробнице пророка.
Тем временем Муавия, сын Абу Суфьяна, бывшего соперника Мухаммеда, был провозглашен халифом в Сирии. Управление этой провинцией было доверено ему Омаром, и он отличился там как доблестью, так и умеренностью. Узнав о смерти Усмана, он объявил себя мстителем за этого повелителя правоверных, выставив его окровавленные одежды в мечети Дамаска, и шестьдесят тысяч арабов и обращенных сирийцев поклялись следовать за его знаменем. Амр, завоеватель Египта и самый прославленный среди мусульманских полководцев, первым приветствовал Муавию как халифа.
Али выступил против него. Все силы завоевателей Азии собрались в двух лагерях, и, если верить арабским историкам (склонным скорее поражать читателя, чем поучать его), армии стояли друг против друга одиннадцать месяцев, между ними произошло девяносто сражений, в которых погибло сорок пять тысяч воинов Муавии и двадцать пять тысяч – Али. Наконец, мусульмане потребовали, чтобы, согласно закону Корана, два соперника подчинились решению двух арбитров. Оба халифа согласились с волей армии: Али вернулся в Куфу на Евфрате, Муавия – в Дамаск, а их представители, Абу Муса и Амр, должны были решить, кто станет повелителем правоверных.
Самый беспристрастный выход казался в том, чтобы отстранить обоих и выбрать третьего. Арбитры остановились на этом, и Абу Муса объявил народу, что Али перестал быть халифом. Но Амр, обманув своего коллегу, поспешил провозгласить, что Муавия остается единственным повелителем правоверных. Именно с этого обмана берет начало раскол между шиитами и суннитами, существующий до сих пор: первые (особенно персы) считают низложение Али незаконным, как и правление трех халифов, стоявших между ним и Мухаммедом, а вторые (особенно турки) признают Муавию законным преемником Али.
Гражданская война возобновилась и длилась все правление Али (656—661). Империя, созданная столькими победами, казалось, была на грани краха. Трое хариджитов – фанатиков секты, постоянно выступавшей против узурпации власти, – решили пожертвовать жизнью, чтобы убить трех главных виновников пролития мусульманской крови. Двое из них, направленные против Амра и Муавии, были схвачены, но третий 24 января 661 года нанес Али смертельный удар. Ему было тогда шестьдесят три года.
Хасан, старший сын Али и внук пророка, был признан сектой шиитов преемником своего отца. Но, лишенный честолюбия и не желая продолжать гражданские войны, уже пролившие столько крови, он вступил в переговоры с Муавией и через шесть месяцев отрекся от власти.
Рвение Муавии не было столь бескорыстным, как у его предшественников. За двадцать лет правления, которое он продлил до глубокой старости, он залечил раны, нанесенные мусульманской империи междоусобицами, и вновь направил оружие верующих против тех, кого они называли неверными – против турок за Оксусом и против христиан Малой Азии и Африки. Его армии семь лет осаждали Константинополь, в то время как другие войска пересекали Ливию и основали новую столицу этой провинции – Кайруан, в двенадцати милях от моря и в пятидесяти милях от Туниса. Однако завоевания мусульман теперь преследовали не только цель распространения религии Корана – они укрепляли империю новой правящей династии, сочетавшей деспотические привычки древних восточных монархов с фанатизмом новых сектантов.
Муавия покинул Аравию, чтобы больше не возвращаться: ему больше нравилась покорность сирийцев и их рабские привычки, чем гордая независимость бедуинов. Он добился признания своим соправителем своего сына, сластолюбивого Язида, тем самым заранее обеспечив ему преемственность. И поскольку эта передача власти была допущена впервые, должность наместника пророка стала наследственной в семье сына Абу Суфьяна, который был его самым давним и яростным врагом.
Фатимиды, дети Али и дочери Магомета, не желали ни разжигать гражданскую войну, ни признавать то, что они считали узурпацией, но и не прекращали борьбу за веру. Хусейн, второй сын Али, участвовал во второй осаде Константинополя. Однако когда пороки Язида показали мусульманам тяжесть и позор нового ига, Хусейн, удалившийся в Медину, прислушался к предложениям партии, желавшей вернуть власть внуку Магомета и представителю курайшитов. Утверждали, что сто сорок тысяч человек готовы были обнажить меч за него.
Хусейн пересек пустыню с небольшим отрядом преданных семье друзей, но, достигнув границ Ассирии, обнаружил, что восстание в его пользу уже подавлено и что со всех сторон его окружают лишь враги. Отступление было невозможно, а сдаться он считал ниже своего достоинства. Напрасно он уговаривал друзей позаботиться о своей безопасности – никто не хотел его покидать. Тридцать два всадника и сорок пехотинцев решили сразиться с армией Обеидоллы, наместника Куфы, которая, как они знали, насчитывала пять тысяч конников. Но среди мусульман не нашлось никого, кто бы не содрогнулся при мысли поднять руку на сына Али и внука пророка; никто не осмеливался выдержать натиск фатимидов. Правда, они не стеснялись поражать их издали стрелами, поскольку тогда не могли разглядеть, в кого именно попадали.
Все фатимиды погибли, и Хусейн, державший на руках своего раненого сына и племянника, был убит последним. Так дом Магомета был уничтожен 10 октября 680 года в самой империи, которую он основал. Тем не менее Хусейн оставил после себя сыновей, чье потомство вплоть до девятого поколения давало имамов или первосвященников, которые по сей день почитаются персами и которых халифы из рода Омейядов не осмеливались преследовать в свободной Аравии.
Глава XV. Омейяды и христианский мир. 661—760 гг.
Мы сочли необходимым уделить пристальное внимание основателю одной из величайших революций, изменивших облик мира, а также попытались познакомить читателей с его первыми последователями – теми завоевателями-апостолами, которые столь странным образом сочетали в себе строжайшие добродетели отшельников с ненасытным честолюбием узурпаторов. Однако, показав, как возник халифат, и описав дамасский дворец, где поселилась череда наследственных правителей, чуждых воинской славе и чья политика оставила след не более глубокий, чем их доблесть, – мы не станем уделять столь же пристальное внимание быстро забытым именам Язида, Муавии, Марвана, Абд аль-Малика, Валида, какое отказали почти что семейным хроникам меровингских королей, лангобардов или бургундов. Достаточно сказать, что со времени воцарения Муавии в 661 году от Рождества Христова – положившего начало правлению ветви рода курайшитов, названной по имени его деда династией Омейядов, – четырнадцать халифов последовательно занимали дамасский престол в течение девяноста лет, вплоть до Марвана II, который в 750 году был свергнут и убит Аббасом, прозванным «Абуль-Аббас» (то есть «происходящий от Аббаса», дяди Мухаммеда). С ним началась эпоха Аббасидов, прославившихся основанием Багдада, своей столицы, и покровительством наукам.
Во дворце халифов ничто уже не напоминало о создателях суровой религии и о последователях пророка, никогда не отступавшего от образа жизни беднейшего бедуина. У ворот стояла многочисленная стража, сверкавшая золотом и ощетинившаяся железом; внутренние покои украшали всевозможные художественные и денежные богатства; самые изысканные удовольствия роскошной жизни были собраны здесь для услады повелителя правоверных. Когда он путешествовал, четыреста верблюдов едва хватало для перевозки его кухонной утвари; семь тысяч евнухов были приставлены для личных услуг или охраны его жен. Халиф считал своим долгом посещать большую мечеть для молитвы и проповеди в пятницу – день, посвященный богослужению у мусульман; но это был единственный случай, когда он представал перед народом во всем блеске царского величия. Остальное время он проводил в «раях Дамаска» – так восточные народы называли свои сады, среди журчащих вод, под тенью деревьев, в воздухе, напоенном благовониями.