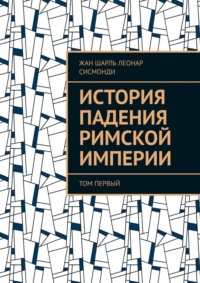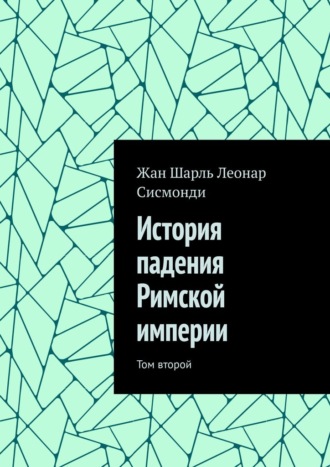
Полная версия
История падения Римской империи. Том второй

История падения Римской империи
Том второй
Жан Шарль Леонар Сисмонди
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Жан Шарль Леонар Сисмонди, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-9430-2 (т. 2)
ISBN 978-5-0065-9422-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
И УПАДКА ЦИВИЛИЗАЦИИ С 250 ПО 1000 ГОД
ТОМ ВТОРОЙ
Автор: Ж. К. Л. СИМОНД ДЕ СИСМОНДИ
Иностранный член Института Франции, Императорской академии Санкт-Петербурга, Королевской академии наук Пруссии; почетный член Виленского университета, Академии и Общества искусств Женевы, Итальянской академии, академий Георгофили, Кальяри, Пистойи; Римской академии археологии и Понтанского общества Неаполя.
ПАРИЖ – TREUTTEL ET WÜRTZ – 1835.
Глава XIII. – Магомет. – 569—632
Великий Аравийский полуостров, простирающийся от Персидского залива до Красного моря и от границ Сирии до берегов Южного океана, представляет собой обособленный мир, где человек, животные, небо и земля обладают иным обликом и подчиняются иным законам. Здесь всё напоминает о вечной независимости коренного народа; древние предания сугубо национальны, а своеобразная цивилизация развивалась без участия чужеземцев.
Площадь Аравии примерно в четыре раза превышает площадь Франции. Однако этот обширный континент, не имеющий ни рек, ни достаточно высоких гор, способных задерживать облака и превращать их в дождь или удерживать снег в этих знойных широтах, постоянно страдает от жажды. Сама земля здесь иссушена; лишь с трудом она покрывается скудной растительностью в сезон дождей, а как только солнце разгоняет тучи, его палящие лучи превращают её в пыль, которую ветры сметают в песчаные барханы, грозящие поглотить труды человека и нередко хоронящие путников в ужасных могилах. Лишь изредка встречаются живые источники, обнаруженные человеческим трудом или инстинктом животных и бережно сохранённые в цистернах и глубоких колодцах благодаря древней благотворительности – бескорыстной щедрости, которую незнакомцы оставили в дар незнакомцам грядущих веков. Эти источники отмечают места, где человек может выжить; они отстоят друг от друга так же далеко, как крупные города в Европе, и на маршрутах караванов более половины дневных остановок лишены воды. Помимо этих цистерн, существуют и другие источники, ускользнувшие от внимания человека или не защищённые его трудами; их воды достаются чудовищам пустыни – львам и тиграм, чаще утоляющим жажду кровью, или антилопам, спасающимся от них бегством.
Горы, лишённые почвы из-за солнечного зноя и ветров, местами вздымают свои оголённые вершины. Но если какая-то из них достаточно высока, чтобы притягивать облака и благодатные дожди, если с её склонов стекает хотя бы небольшой ручей, то прежде чем исчезнуть в песках, он дарит удивительное плодородие земле, которую орошает. Жгучая сила солнца здесь не губит, а оживляет; среди песков возникает островок зелени, священный источник укрывают рощи пальм, и все животные собираются вокруг человека. Его власть кажется им менее страшной, чем власть пустыни, от которой они бегут, и они покоряются законам приручения с покорностью, неведомой в других краях. Эти горы, прохладные источники и оазисы рассеяны по бескрайним просторам Аравии лишь изредка. Однако вдоль побережья Красного моря есть места, отмеченные более обильными водами, и с древнейших времён там процветали города. В то же время на юге полуострова, у берегов океана, лежит Йемен – так называемая Счастливая Аравия, – где обильные воды питают тщательно возделанные земли, покрытые кофейными деревьями и ладаном. Говорят, что за много миль путешественник нередко может уловить ароматы, доносящиеся с этих берегов.
Человек, житель этой земли, столь непохожей на все прочие, наделён природой силой, необходимой для борьбы с невзгодами. Мускулистый, ловкий, выносливый и терпеливый, он, подобно своему верному спутнику – верблюду, умеет переносить жажду и голод. Горсть фиников или немного ячменной муки, размоченной в ладони, составляют его пищу. Чистая, свежая вода для него так редка и драгоценна, что он не стремится изобретать крепкие напитки. Его ум направлен на познание своего царства, и изменчивая картина пустыни, где ветры переносят песчаные горы, а знойное, отравленное дыхание самума нередко несёт смерть, не вызывает в нём ни удивления, ни страха. Он смело требует у пустыни немногих богатств, что она скрывает, и бесстрашно пересекает её во всех направлениях. Он подчинил себе всех её обитателей или, скорее, сделал их своими союзниками; делится с ними скудными дарами, которые удаётся вырвать у скупой природы, и направляет их разум на добычу и сохранение скудной пищи, которую Аравия даёт им. Пользуясь их трудом, он сохранил благородство их нрава. Лошадь живёт среди его детей; её ум постоянно развивается в общении с человеком, и она повинуется ему скорее из привязанности, чем из страха. Верблюд отдал ему свою силу и терпение, позволив оживить оживлённую торговлю страну, казалось бы, обречённую на полную изоляцию.
Только благодаря победе труда и мужества человек может жить в Аравии, борясь с природой; он не выжил бы, если бы вынужден был бороться ещё и с деспотизмом. Араб всегда был свободен и останется таким, ведь потеря свободы почти неминуемо повлечёт за собой гибель. Как может труд, едва достаточный для его собственного пропитания, содержать ещё и королей, и солдат? Лишь житель Счастливой Аравии не получил от судьбы этой суровой гарантии. В Йемене есть абсолютные монархи, и страна не раз подвергалась завоеваниям чужеземцев. Но города на берегах Красного моря – это республики, а бедуин пустыни знает лишь отеческое правление. Шейх, старейшина племени, считается отцом; все члены племени называют себя его детьми – риторическая фигура, известная и другим народам, но только в Аравии близкая к истине. Шейх советует своим детям ради их блага, но не приказывает им. Решения племени принимаются на совете старейшин, и тот, кто с ними не согласен, поворачивает коня в пустыню и продолжает путь в одиночестве.
Лишь немногие районы Аравии изредка поддаются улучшению человеческим трудом; только там существует земельная собственность. В остальных местах земля, как воздух и вода, принадлежит всем, а её дары, не требующие возделывания, – общее достояние. Частые столкновения бедуинов, не признающих земельной собственности, с теми, кто, огородив поля, объявил их своими, приучили первых мало уважать законы, регулирующие владение. Они признают лишь законы своего племени; только имущество брата или то, что брат взял под защиту, для них свято. Всё остальное они считают добычей в честной войне. Поэтому бедуин, уважающий себя и считающий, что следует законам морали и своей страны, без угрызений совести занимается разбоем. Он нападает с оружием в руках и делит чужое добро, до которого может дотянуться. Для него слова «чужак» и «враг» – синонимы, если только чужак не приобрёл прав гостя, не разделил с ним хлеб-соль или просто не явился к его очагу с благородным доверием. Тогда он становится священной особой: хозяин поделится с ним последним куском хлеба, последним глотком воды и до последнего вздоха будет защищать его.
У других народов знатность – это лишь передача древнего богатства и власти. Но бедуин, чьё богатство всегда движимо и недолговечно, кто не подчиняется власти и не стремится повелевать, если и чтит древность родов, тщательно храня свою родословную и родословную своих любимых коней, воздаёт этим лишь дань прошлому, силе памяти и мощи воображения, которое он непрестанно развивает в долгом одиночестве и праздности. Араб – из всех народов самый неутомимый в упражнениях ума. История его племени служит ему руководством к действию. Встречая в своих странствиях людей всех племён, он никогда не забывает добро или зло, которое его предки получили от предков тех, кого встречает на пути. В отсутствие общественной власти, гарантий безопасности от властей или законов, благодарность и месть стали основными законами его поведения. Они возведены всеми его обычаями, всеми наставлениями, которые он получил, выше рассудка, под защиту чести и своего рода религии. Его благодарность безгранична в своей щедрости, его месть беспощадна, терпелива, хитра и жестока, ибо питается не ненавистью, а чувством долга. Изучение прошлого, даже родословных, служит путеводным светочем для этих двух страстей.
Память арабов, однако, обогащена и другими воспоминаниями. Самым ярким национальным удовольствием была поэзия, совершенно отличная от нашей; она выражает более стремительные желания, более пламенные страсти и делает это языком гораздо более образным и с куда более необузданной фантазией. Мы – плохие судьи как её красот, так и её недостатков; однако мы должны признать, что она принадлежит вовсе не варварскому народу, а, напротив, народу, который, следуя к цивилизации иным путём, нежели наш, продвинулся так далеко, как только позволяли климат, в котором он обитал, и непреодолимые препятствия. Действительно, арабский язык – орудие его литературы – был тщательно отточен, и человек пустыни чуток к малейшему недостатку изящества и чистоты в выражении. Красноречие культивировалось так же, как и поэзия, и прежде чем проповедь достигла своего расцвета при халифах, политическое красноречие уже сияло ярким светом – и в советах республик Красного моря, и под шатрами пустыни, где вожди народа должны были убеждать тех, кто не знает, что такое повиновение.
Религия занимала в воображении арабов ещё большее место, чем поэзия. Этот серьёзный и строгий народ, постоянно борющийся с трудностями, всегда находящийся лицом к лицу со смертью, часто страдающий от долгих лишений, возвышающих душу отшельников, во все времена обращал свои размышления к таинственной части человеческой судьбы и её связи с незримым миром. Древнейшая религия земли, иудаизм, зародилась почти в пределах Аравии. Палестина – на её границах; евреи долго жили в пустыне. Одна из священных книг, книга Иова, была написана арабом в Аравии; в другой – происхождение арабского народа, потомство Исмаила, сына Авраама, – льстило национальной гордости. Многочисленные и влиятельные колонии иудеев были рассеяны по Аравии и свободно исповедовали там свою веру. Ещё более многочисленные колонии христиан были последовательно введены туда яростными гонениями в империи против всех сект, которые постепенно отходили от ортодоксии – в долгих спорах арианства и двух природ. Аравия была слишком свободной, чтобы терпимость не была там полной, и чтобы все эти беженцы-сектанты и их прозелиты среди арабов не находились в условиях полного равенства. Невозможность вредить друг другу заставила их понять друг друга, и те, кто по ту сторону границы постоянно доносили друг на друга в суды, лишая один другого всех гражданских и человеческих прав, в Аравии вновь обрели в сердцах чувства милосердия.
Но хотя Аравия и приняла в своё лоно иудеев, христиан всех сект, магов и сабеев, у неё была и своя национальная религия – собственное многобожие. Её главным храмом была Кааба в Мекке. Там для поклонения верующих хранился метеорит – чёрный камень, упавший с неба, а сам храм был украшен тремястами шестьюдесятью идолами. Охрана Каабы была доверена роду курайшитов, древнейшему и знатнейшему в республике Мекки, и эта жреческая функция давала главе курайшитов председательство в советах республики. Паломники со всех концов Аравии с великим благоговением стекались в Мекку, чтобы поклониться чёрному камню и оставить свои дары в Каабе. Поэтому жители Мекки, чей город, лишённый воды и окружённый бесплодной землёй, обязан своим процветанием скорее суеверию, чем торговле, были привязаны к национальной религии с рвением, усиленным личной выгодой.
В одной из знатнейших семей Аравии в 569 году родился человек, сочетавший в себе все качества, характерные для его народа. Это был Мухаммед, сын Абдаллаха, из рода курайшитов, особой ветви Хашима, которой была доверена охрана Каабы и председательство в республике Мекки. Дедушка Мухаммеда, Абд аль-Мутталиб, сам занимал этот высокий пост, но умер, как и Абдаллах, прежде чем Мухаммед достиг зрелого возраста. Главенство в Мекке перешло к Абу Талибу, старшему из его сыновей, а доля Мухаммеда в наследстве ограничилась пятью верблюдами и одним рабом. В двадцать пять лет он поступил на службу к богатой и знатной вдове по имени Хадиджа, в торговых интересах которой совершил два путешествия в Сирию. Его усердие и ум вскоре были вознаграждены рукой Хадиджи. Его супруга была уже не молода, а Мухаммед, считавшийся красивейшим из курайшитов и питавший к женщинам страсть, которую арабские нравы не осуждали, а узаконенная полигамия даже поощряла, оставался верен Хадидже с нежной благодарностью в течение двадцати четырёх лет их союза – пока она жила, он не взял себе другой жены.
Благодаря браку вернувшись к достатку и покою, Мухаммед, чей характер был суров, а воображение пламенным, и чья крайняя воздержанность, превосходящая даже большинство отшельников, возможно, ещё более располагала к религиозным размышлениям и возвышенным мечтаниям, не имел иных мыслей и занятий, кроме как укрепить свою веру, очистить её от грубых суеверий, царивших в его стране, и возвыситься до познания Бога. Будучи внуком и племянником верховного жреца идола, могущественного и уважаемого в мире благодаря связи с храмом чёрного камня, он не признавал Божественность ни в этом грубом символе, ни в рукотворных идолах, его окружавших. Он искал её в своей душе; он представлял её как вечный дух, вездесущий, благой, которого никакое телесное изображение не могло выразить. Проникшись этой возвышенной идеей в течение пятнадцати лет, выносив её в размышлениях и, возможно, возвысив свой дух мечтаниями, он в сорок лет решил стать реформатором своего народа; он поверил – или, по крайней мере, сказал, – что призван к этому особым поручением от Божества.
Было бы крайне несправедливо видеть в этом человеке лишь обманщика, а не реформатора – того, кто сделал так, чтобы великий народ совершил важнейший шаг в познании истины; кто перевёл его от абсурдного и унизительного идолопоклонства, от рабства жрецов, подрывавшего мораль и открывавшего через искупления рынок для выкупа порока, к познанию всемогущего, всеблагого, вездесущего Бога, истинного Бога. Ибо, раз Его атрибуты те же, и признаётся лишь один, Бог мусульман – тот же, что и Бог христиан. Но символ веры, которому Мухаммед учил своих последователей и который сохранился среди них до сего дня без изменений и добавлений, гласит: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Его». Был ли он обманщиком, назвав себя пророком?
Даже в этом отношении печальный опыт человеческой слабости, этой смеси энтузиазма и искусственности, которая во все времена обнаруживалась у всех сектантских вождей и, возможно, встречается и сегодня, даже рядом с нами, у людей, чьи убеждения искренни, чей пыл горяч, а речи провозглашают или дают повод предполагать сверхъестественные дары, коими они на деле не обладают, – должен научить нас снисходительности. Глубокая убеждённость легко сливается с внутренним откровением; грёзы возбуждённого воображения становятся видениями; вера в грядущее событие кажется нам пророчеством. И колеблется человек развеять заблуждение, возникшее само собой в душе верующего, если считает его полезным для его спасения; после того как почтил его иллюзии, он позволяет себе их поддерживать – и приходит к благочестивому обману, который оправдывает целью и результатом. Вскоре он сам начинает верить в то, во что убедил других, и верит в себя, когда те, кто любит его, верят в него. Магомет никогда не претендовал на дар чудес; сегодня нам не придётся далеко ходить, чтобы найти проповедников, которые не основали империй, но куда менее скромны.
Но даже добросовестность не даёт никакой гарантии против опасностей фанатизма, против нетерпимости, которую он порождает, против жестокости, которая за ним следует. Магомет был реформатором арабов; он учил их и хотел научить познанию истинного Бога. Однако, как только он принял новый образ пророка, его жизнь утратила чистоту, а характер – мягкость. Политика проникла в его религию, обман всё больше смешивался с его поступками, и к концу его пути трудно понять, как он ещё мог оставаться искренним с самим собой.
Магомет не умел читать; в Аравии грамота не считалась необходимой для хорошего воспитания. Но его память хранила все самые блистательные поэтические творения на его языке; его стиль был чист и изящен, а красноречие – убедительно и увлекательно. Коран, который он диктовал, считается шедевром арабской литературы, и мусульмане без колебаний утверждают, что он должен быть вдохновлён свыше, ибо ни один человек не смог бы написать столь возвышенно. Правда, для всех, кроме мусульман, это божественное вдохновение неуловимо. Восхищение, привитое с детства перед книгой, постоянно присутствующей в памяти, постоянно всплывающей во всех отсылках национальной литературы, вскоре создаёт ту самую красоту, которую, как кажется, находит в ней. К тому же, недостаток литературного образования, видимо, внушил Магомету некое религиозное почтение к любой книге, объявленной боговдохновенной. Авторитет Книги, авторитет написанного всегда велик у всех полуварварских народов; у мусульман – особенно. Книги иудеев, книги христиан, даже книги магов возвышают в глазах последователей Магомета тех, кто делает их основой своей веры, над классом неверных. А сам Магомет, объявляя себя последним и величайшим из пророков Божьих, Параклетом, обещанным в Писании, признавал шесть последовательных откровений – от Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Христа и от себя самого, – все исходящие от Божества, причём его собственное лишь завершало все предыдущие.
Религия Магомета заключалась не только в вере в догмат, но и в практике нравственности, справедливости и милосердия. Правда, с ним случилось то, что часто бывает с законодателями, желающими подчинить добродетели сердца строгим правилам: форма заняла место сути. Коран из всех религиозных законодательств сделал милостыню самым строгим долгом и определил её точнейшие границы: он требует от каждого верного выделять на благотворительность от десятой до пятой части дохода. Но правило заменило чувство: милосердие мусульманина – это личный расчёт, относящийся лишь к его собственному спасению, и тот же человек, который скрупулёзно исполняет обязанности этой благотворительности, не становится менее жестоким и беспощадным к ближним.
Внешние обряды были особенно необходимы в религии, которая, не допуская ни изображений, ни сложных церемоний, ни даже особого сословия жрецов (кроме хранителей законов), казалась обречённой на равнодушие и холодность. Проповедь стала общественной практикой; молитвы, омовения, посты – индивидуальными обязанностями, к которым призывались мусульмане. До конца своей жизни Магомет постоянно проповедовал своему народу – и в пятницу, которую он особенно посвятил богослужению, и во всех торжественных случаях, во все моменты опасности или вдохновения. Его пламенное красноречие умножалось числом его последователей и поддерживало их рвение. После него первые халифы и все, кто имел какой-либо авторитет среди верующих, продолжали проповеди, часто во главе войск, разжигая военный энтузиазм религиозным.
Пять раз в день мусульманин призывается к горячей, но краткой молитве, которую он выражает словами по своему выбору, не подчиняясь никакой литургии. Чтобы сосредоточить внимание, во время молитвы он должен направлять взор в сторону Мекки, к самому храму Каабы, который прежде был посвящён идолопоклонству, но который Мухаммед, очистив и посвятив его истинному Богу, всегда почитал с тем уважением, что этот памятник так долго внушал его народу и его семье. Для подготовки к молитве чистота была предписана как обязанность для верующего, который собирался предстать перед Богом; пять омовений рук и лица должны были предшествовать пяти молитвам. Однако ислам первоначально был возвещён народу, который проводил большую часть жизни в безводных пустынях; Коран разрешил верующему в случае крайней необходимости заменять водные омовения омовениями песком. Посты были строгими и не допускали никаких исключений: они носили характер трезвого и сурового человека, который наложил их на своих учеников. Во все времена и во всех местах он запретил им употребление вина и любых других опьяняющих напитков; а в течение одного месяца в году – рамадана, который, согласно лунному календарю, последовательно приходится на каждое время года, – мусульманин от восхода до заката солнца не может ни пить, ни есть, ни пользоваться банями или благовониями, ни позволять себе никаких чувственных удовольствий. Однако Мухаммед, налагавший на всех своих последователей столь же суровое покаяние, не одобрял аскетический образ жизни; он не разрешал своим сподвижникам связывать себя обетами и заявил, что не потерпит монахов в своей религии. Только через триста лет после его смерти в исламе появились факиры и дервиши, и это стало одним из самых значительных изменений, которые претерпел ислам.
Но тот вид воздержания, на котором более всего настаивали христианские учителя, Мухаммед либо вовсе игнорировал, либо относился к нему с наибольшей снисходительностью. До него арабы пользовались неограниченной свободой в любовных или брачных утехах. Мухаммед осудил кровосмесительные союзы, наказал прелюбодеяние и распутство, усложнил процедуру развода, но разрешил каждому мусульманину иметь четырёх жён или наложниц; он установил все их права, привилегии и приданое; затем, возвысившись сам над законами, которые дал другим, после смерти своей первой жены Хадиджи он женился последовательно на пятнадцати или, по другим данным, семнадцати женщинах, все из которых, кроме Аиши, дочери Абу Бакра, были вдовами: новая глава Корана была принесена ему ангелом, чтобы освободить от подчинения закону, который нам кажется не слишком строгим.
Снисходительность к этой страстной склонности арабов, которую он и сам разделял, вновь проявилась в описании наград будущей жизни, которыми Мухаммед укрепил свою религию. Он изобразил картину грядущего суда, на котором тело вновь соединится с душой, грехи и добрые дела каждого, кто верует в Бога, будут взвешены, и последуют награды или наказания. С редкой для сектанта терпимостью он объявил, или, по крайней мере, не запрещал верить, что спасение возможно в любой религии, если человек совершал добрые дела. Но он обещал мусульманину, каким бы ни было его поведение, что он в конечном итоге всё равно попадёт в рай, искупив свои грехи или преступления в чистилище, которое не может длиться более семи тысяч лет. Описание этого чистилища или ада ничем не отличалось от того, что в других религиях представлялось для устрашения людей. Но рай был изображён арабским воображением: рощи, ручьи, цветы, благоухание под прохладной тенью и семьдесят две гурии, или юные девы, с чёрными глазами и ослепительной красотой, которые навеки обеспечат блаженство каждого истинно верующего, – вот награды, обещанные праведникам. Хотя Мухаммед нашёл многих своих самых ревностных последовательниц среди женщин, он воздержался от разъяснений, какой именно рай уготован для них.
Среди убеждений, которые Мухаммед стремился внушить всем мусульманам, есть одно, которое приобрело особую важность, когда он соединил в себе роль завоевателя с ролью пророка. Чтобы объяснить непостижимое сочетание Божественного предвидения со свободой воли человека, он склонялся к фатализму; но он никогда не отрицал влияние нашей воли на все остальные наши действия; он лишь учил своих воинов, что час смерти заранее записан в книге жизни, что тот, кто избежит её в бою, встретит её на своём ложе; и, выделяя эту идею из всех прочих, внушая её тем сильнее, чем меньше он настаивал на других ограничениях, налагаемых Божественным предвидением на свободную волю, – хотя фатализм, чтобы быть последовательным, должен был бы распространяться на все наши действия и движения, – он вселил в мусульман бесстрашие перед опасностью, придал их храбрости ту уверенность, которую тщетно искать у солдат, вдохновляемых лишь более благородными чувствами чести и патриотизма.
Мухаммед начал проповедь своего нового учения в Мекке в 609 году, когда ему уже исполнилось сорок лет. Своих первых последователей он искал прежде всего в своей семье, и влияние, которое он приобрёл над их умами, говорит в пользу его домашних качеств. Первой обратилась Хадиджа, затем Зайд, раб Мухаммеда; потом Али, сын Абу Талиба, его двоюродный брат, и Абу Бакр, один из самых уважаемых жителей Мекки. Десять лет Мухаммед медленно распространял новое учение среди своих соотечественников; все, кто принимал его, одновременно проникались пламенной верой новообращённых. Пророк – единственное имя, под которым Мухаммед был известен среди учеников – всегда говорил с ними, как казалось, от имени Божества: он не оставлял в их умах ни малейшего сомнения ни в истинности своих откровений, ни в исполнении его обещаний, и уже на четвёртый год он выбрал своим визирем своего двоюродного брата Али, которому едва исполнилось четырнадцать лет, в то время как империя, которой ему предстояло управлять, пока насчитывала лишь около двадцати верующих.