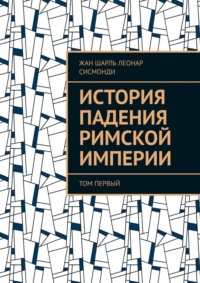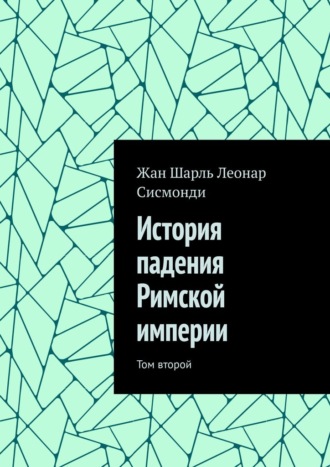
Полная версия
История падения Римской империи. Том второй
Мухаммед обращался не только к жителям Мекки; он ожидал у Каабы паломников, прибывавших со всех концов Аравии, указывал им на нелепость и грубость религии, которую они там исповедовали, призывал их использовать разум и признать единого незримого Бога, всеблагого, всемогущего, владыку вселенной, столь превосходящего Чёрный камень или идолов, перед которыми они преклонялись. Красноречие Мухаммеда действительно привлекало ему последователей; но жители Мекки возмущались, видя, как их вера подвергается нападкам в их собственном храме, а благополучие их священного города ставится под угрозу вместе с религией – и всё это по вине внука их верховного жреца, племянника нынешнего правителя. Они потребовали от Абу Талиба положить конец этому скандалу. Дядя Мухаммеда, хотя и сопротивлялся проповедям племянника изо всех сил, не позволил посягнуть на его жизнь или свободу. Мухаммед, поддерживаемый родом Хашим против остальных курайшитов, не подчинился постановлению об отлучении, вынесенному против него и выставленному в храме. Вместе с учениками он выдержал осаду в своём доме, отразил нападавших и сохранил своё место в Мекке вплоть до смерти Абу Талиба и Хадиджи. Но когда новым главой республики и религии стал Абу Суфьян из рода Омейядов, Мухаммед понял, что бегство – его единственный выход; ведь его враги уже договорились, что его поразит меч представителя каждого племени, дабы ни одно из них не стало отдельной мишенью для мести хашимитов.
Однако убежище для Мухаммеда уже было подготовлено: его религия распространилась в других частях Аравии, и город Медина, расположенный в шестидесяти милях к северу от Мекки на том же Аравийском заливе, объявил о готовности принять его и признать его пророком и правителем.
Но бегство было трудным; это было знаменитое бегство, названное Хиджрой, которое стало великой эрой мусульман. Курайшиты не спускали глаз с Мухаммеда. Их обманул храбрый Али, занявший его место в постели, полагая, что жертвует собой под их кинжалами. Мухаммед и Абу Бакр бежали в одиночку. В аравийских пустынях, где мало что нарушает однообразие горизонта, нелегко скрыться от преследователей на быстрых скакунах. Двум беглецам, которых почти настигли курайшиты, удалось укрыться в пещере Савр, где они провели три дня; и эту пещеру не обыскали, потому что паутина, сплетённая у входа, заставила сделать вывод, что туда не ступала нога человека. Только когда пыл погони утих, Мухаммед и Абу Бакр, верхом на дромадерах, предоставленных их сторонниками, в сопровождении отряда мекканских беглецов, вступили в Медину – шестнадцать дней спустя после их исхода из первого города, 10 октября 622 года.
С этого дня Мухаммед, уже в возрасте пятидесяти трёх лет, стал рассматриваться не только как пророк, но и как военный правитель. Его религия тогда приобрела иной дух: он больше не довольствовался убеждением, а требовал подчинения. Он объявил, что время терпения и снисхождения прошло, и что его миссия, как и миссия каждого истинного верующего, – распространять свою религию мечом, разрушать храмы неверных и все памятники идолопоклонства, преследовать неверующих до краёв земли, не прерывая это святое дело даже в дни, особенно посвящённые религии. «Меч, – говорил он, – это ключ к раю и аду. Капля крови, пролитая во имя Аллаха, ночь, проведённая с оружием в руках, будут зачтены верующему больше, чем два месяца поста и молитв; тому, кто падёт в бою, простятся все грехи. В день суда его раны засияют цветом киновари, будут источать ароматы мускуса и амбры, а утраченные члены заменятся крыльями ангелов и херувимов».
Небесные блага были не единственной наградой, обещанной доблести мусульман; земные богатства также должны были делиться между ними, и Мухаммед с этого времени начал вести их нападения на богатые караваны, пересекавшие пустыню. Тогда его религия привлекла кочевых бедуинов не столько возвышенными догматами о единстве и духовности Бога, сколько обилием добычи и предоставлением победителям женщин и пленниц, а также богатств неверных. Однако даже в то время, когда Мухаммед делил захваченные сокровища между верующими, он сам не отступал от прежней простоты: его дом и мечеть в Медине были лишены всяких украшений; его одежда была грубой, пища ограничивалась финиками или ячменным хлебом, а проповедуя каждую пятницу народу, он опирался на ствол пальмы. Лишь спустя много лет он позволил себе роскошь деревянного кресла.
Первая битва Мухаммеда произошла в 623 году против курайшитов в долине Бадр. Мухаммед хотел захватить богатый караван, которым руководил Абу Суфьян; жители Мекки собрались в значительно превосходящем числе, чтобы спасти его: 313 мусульман противостояли 850 пехотинцам курайшитов, поддержанным сотней всадников. Именно с такими скромными силами велась война, которая вскоре должна была решить судьбу значительной части мира. Фанатизм мусульман победил численное превосходство противников: они верили, что исход битвы решила незримая помощь трех тысяч ангелов во главе с архангелом Гавриилом. Однако Мухаммед не ставил веру своего народа в зависимость от успеха: в том же году он потерпел поражение при Ухуде, в шести милях от Медины; там он был ранен сам и с кафедры объявил верующим о своем поражении и гибели семидесяти мучеников, которые, по его словам, уже вошли в райскую славу.
Мухаммед был обязан иудеям частью своих знаний и религии, но питал к ним ненависть, которая, казалось, разгоралась среди религиозных сект, когда между ними было лишь одно различие при множестве сходств. Могущественные колонии этого народа, богатые, торговые и лишенные воинских доблестей, располагались в Аравии недалеко от Медины. С 623 по 627 год Мухаммед нападал на них последовательно; он не ограничился разделом их богатств, но и предал почти всех побежденных мучениям, которые в других войнах редко пятнали его оружие.
Но самой страстной мечтой Мухаммеда было завоевание Мекки. В его глазах это был будущий центр его религии и истинная родина; там он хотел вернуть величие своих предков и превзойти его собственным. Его первые попытки имели мало успеха. Однако с каждым годом он приобретал новых последователей: Омар, Халид и Амр, ранее выделявшиеся в рядах его врагов, один за другим перешли под его знамена. Десять тысяч бедуинов присоединились к его армии, и в 629 году Абу Суфьян был вынужден передать ему ключи от города. Одиннадцать мужчин и шесть женщин из числа его прежних врагов были осуждены по приказу Мухаммеда. Для арабской мести это было немного. Когда курайшиты пали к его ногам, он спросил: «Какой милости вы ждете от человека, которого так оскорбили?» – «Мы полагаемся на великодушие нашего сородича», – ответили они. «И вы не ошиблись, – сказал он, – ибо вы свободны». Кааба была очищена по его приказу. Все жители Мекки приняли религию Корана, и вечный закон провозгласил, что ни один неверный не ступит на территорию священного города.
Каждый успех завоевателя-пророка облегчал следующий, и после взятия Мекки покорение остальной Аравии заняло у него всего четыре года – с 629 по 632 год. Оно было отмечено великой победой при Хунайне, осадой и взятием Таифа. Его полководцы продвинулись от берегов Красного моря до берегов Океана и Персидского залива, и во время последнего паломничества Мухаммеда вокруг Каабы в 632 году под его знаменами уже шли 114 тысяч мусульман.
За десять лет своего правления Мухаммед лично участвовал в девяти сражениях, а его сподвижники провели пятьдесят военных походов; почти все они ограничивались Аравией, однако в 629 или 630 году Зейд повел отряд мусульман в Палестину, и Гераклий, едва вернувшийся из своих блистательных кампаний против персов, был атакован неведомым врагом. В следующем году сам Мухаммед выступил во главе армии из двадцати тысяч пехотинцев и десяти тысяч всадников по дороге к Дамаску и официально объявил войну Римской империи. Однако, судя по всему, тогда битвы не произошло, и, возможно, ослабленное здоровье заставило его распустить войско.
В 632 году Мухаммеду исполнилось шестьдесят три года; последние четыре года его физическая сила, которую он прежде демонстрировал, казалось, покидала его, но он по-прежнему исполнял обязанности царя, полководца и пророка. Четырнадцатидневная лихорадка, сопровождавшаяся временами бредом, свела его в могилу. Чувствуя приближение смерти, он с кафедры призвал верующих молиться за него и простить тем, кого мог обидеть. «Если здесь есть тот, кого я ударил несправедливо, я готов принять ответный удар; если я опорочил честь мусульманина, пусть он обличит мои грехи. Если я отнял чье-то имущество, я готов возместить долг». «Да, – раздался голос из толпы, – ты должен мне три серебряные драхмы». Мухаммед проверил долг, вернул его и поблагодарил за то, что кредитор потребовал его в этом мире, а не у Божьего суда. Затем он освободил своих рабов, дал подробные указания о своих похоронах, успокоил плач друзей и благословил их. До последних трех дней жизни он продолжал молиться в мечети. Когда силы окончательно оставили его, он поручил Абу Бакру вести молитву, и все решили, что тем самым он указал на своего старого друга как на преемника. Однако он не высказал четкой воли на этот счет, оставив решение собранию верующих. Он спокойно встретил приближение смерти, но до конца смешивая сомнительные притязания пророка с горячей верой фанатика, повторял слова, которые, как он утверждал, слышал от ангела Гавриила, в последний раз посетившего землю ради него. Он подтвердил свое прежнее заявление, что ангел смерти не унесет его душу, не спросив разрешения, и громко дал это разрешение. Лежа на ковре, покрывавшем пол, в последние минуты он покоился, положив голову на грудь Аиши, самой любимой из своих жен. Боль лишила его чувств, но, придя в себя, он устремил взгляд на потолок и отчетливо произнес последние слова: «О Боже! Прости мои грехи… да… я иду к моим собратьям в раю». И он скончался 25 мая или, по другим расчетам, 7 июня 632 года.
Отчаяние охватило его учеников в Медине, где он находился, и особенно в его доме. Пылкий Омар, обнажив саблю, заявил, что отрубит голову любому неверному, кто осмелится сказать, что пророка больше нет. Но Абу Бакр, друг и старейший из сподвижников Мухаммеда, обратился к Омару и толпе: «Кому мы поклоняемся – Мухаммеду или Богу Мухаммеда? Бог Мухаммеда вечен, но пророк был смертен, как и мы, и, как он предупреждал, разделил общую участь человечества». Эти слова успокоили смятение, и Мухаммед был похоронен родственниками под надзором Али, его двоюродного брата и зятя, на том самом месте, где испустил дух.
Глава XIV. – Завоевания сарацин при первых халифах. 632—680 гг.
Мухаммед в течение двадцати трех лет выступал как пророк, десять лет – как правитель и завоеватель, и в последние годы своей жизни он расширил границы своей империи далеко за пределы, которые могли бы охватить надежды любого, кроме фанатика, в начале его пути. Однако его победы, новое учение и совершаемая им революция оставались ограничены пределами Аравии. Перемены в воззрениях неграмотного народа, чей язык никогда не изучался соседями, казалось, не заслуживали внимания мира. Внутренние перевороты в маленьких республиках Красного моря никогда не оказывали влияния на другие страны, а объединение арабов пустыни – этих вольных, как антилопы, бродящие по их пескам, – казалось чем-то преходящим. В Константинополе, Антиохии и Александрии не знали о рождении ислама или не видели в нём угрозы.
Но революция, которая при жизни Мухаммеда ограничивалась Аравией, в эпоху его первых последователей и правления избранных им сподвижников охватила весь мир. Со смерти пророка в 632 году и до гибели Али, его двоюродного брата, зятя и одного из первых приверженцев, в 661 году, двенадцать лет были наполнены завоеваниями, поражающими воображение. Затем одиннадцать лет слабости и нерешительности, казалось, отбросили монархию назад, и, наконец, пять лет ожесточенных гражданских войн завершились установлением деспотизма, столь же чуждого первоначальным установлениям Мухаммеда, как и нравам арабов.
Мухаммед построил всю свою военную систему на горячей вере воинов, на внушенной им уверенности, что битва открывает кратчайший путь в рай, и на стремлении мусульман обрести новый венец мученичества, уготованный тем, кто пал от рук неверных. Но он не изменил вооружение арабов и не научил их новому способу ведения войны. Их войска по-прежнему выглядели так, что соседи презирали их. Сарацины оставались почти голыми воинами, вооруженными, если они сражались пешими, лишь луками и стрелами, а если конными – легким копьем и саблей или ятаганом. Их кони были неутомимы в беге, не имели равных в мире ни по послушанию, ни по резвости, но они не маневрировали крупными регулярными массами, не обладали мощью северной кавалерии, сокрушающей батальоны тяжелыми атаками. Отдельные воины выезжали перед строем, чтобы отличиться личной доблестью, и после нескольких ударов саблей, если враг превосходил их числом или защитой, ускользали благодаря быстроте своих коней. Сражения представляли собой долгие стычки, где противники редко сходились врукопашную. Чаще всего они длились несколько дней, и лишь когда враг, изнуренный непривычным напряжением, обращался в бегство, арабские всадники становились ужасны в преследовании. Военные познания соратников Мухаммеда, казалось, не возросли, и даже в период самых блистательных завоеваний сарацин, при жизни сподвижников пророка, их армия не использовала осадных машин, а штурм крепостей велся так, как это делают дикари.
Такие воины, веками известные лишь как «разбойники пустыни», никогда не внушали серьезных опасений ни римлянам, ни персам, даже в самые трудные времена для обеих империй. И вот эти «разбойники пустыни» напали на обе империи одновременно и сокрушили их за несколько лет. Их вооружение осталось прежним – изменились лишь души воинов.
Еще никогда не случалось – и дай Бог, чтобы больше не случилось – чтобы целый великий народ забыл о земном мире, думая лишь о мире загробном, в то же время проявляя все мирские качества: изощренную политику, бесстрашную храбрость, неутомимую активность. Еще никогда не соединялись воедино добродетели монаха и воина: воздержание, терпение, покорность, равнодушие к высшим и низшим должностям – вместе с жаждой крови, любовью к славе и предприимчивой энергией души, столь отличной от пассивного мужества монастырей. Позже, в войнах крестоносцев, христианские рыцари повторили этот пример, но в неизмеримо меньших масштабах. Если бы воинственный фанатизм мальтийских рыцарей охватил целый народ, они тоже завоевали бы мир.
Еще никогда не бывало, чтобы доходы и силы великой империи управлялись с монастырской бережливостью правительством, которое ничего не стоило, ничего не желало для себя, презирало роскошь и наслаждения и направляло все военные добычи исключительно на продолжение войны. Это правление должно стать первым предметом нашего внимания.
Мухаммед не связывал никаких политических идей со своей религией. Он не уничтожил свободу пустыни; не учредил ни аристократического сената, ни наследственной власти в своей семье или какой-либо другой. Свобода всех, индивидуальная воля были приостановлены силой вдохновения. Ему повиновались как гласу Бога, а не какой-либо человеческой власти; и когда он умер, никакой организации не было дано империи верующих, ни одна рука не казалась готовой принять наследие пророка. Но тот же религиозный энтузиазм продолжал воодушевлять мусульман. Их мечи, богатства и вся их власть, по их мнению, не должны были иметь иного назначения, кроме распространения знания об истинном Боге; доля каждого в этом деле была безразлична, лишь бы он работал изо всех сил для той же цели, и председательство в республике казалось состоящим лишь в председательстве на молитвах у гробницы или во дворце Медины.
Было решено, что первые друзья пророка были более, чем остальные ученики, воодушевлены его примером и наставлены его беседами; и по этому праву Абу Бакр, старейший последователь Мухаммеда и его спутник в бегстве, был назначен Умаром и провозглашён вождями, собравшимися у смертного ложа пророка, как его наместник или халиф.
Этот титул был признан в городах Мекки, Медины и Таифа, и особенно в армии верующих. Но уже арабы пустыни, соблазнённые более надеждой на добычу, чем откровениями пророка, отпадали от империи, которую считали готовой рухнуть. Идолопоклонники, которых считали обращёнными, взялись за оружие, чтобы восстановить старый национальный культ; в то время как новый пророк в Йемене, Мусайлима, движимый настоящим фанатизмом или примером успеха Мухаммеда, проповедовал другую религию.
Абу Бакр, уже чувствуя тяжесть лет, считал, что его обязанности халифа ограничиваются лишь молитвами и наставлениями верующих. Но он поручил храброму Халиду, прозванному «мечом Божьим», усмирить мятежников, отступивших от веры и нападавших на империю мусульман, и его победа восстановила за несколько месяцев мир и единство религии в Аравии.
Тем временем Абу Бакр приказал своей дочери Аише, вдове Мухаммеда, составить опись его наследства, чтобы каждый мусульманин мог знать, не стремится ли он обогатиться за счёт пожертвований верующих. Он просил содержание в три золотые монеты в неделю для своего пропитания, одного чёрного раба и одного верблюда; однако в конце каждой недели он раздавал бедным всё, что оставалось от этого скромного содержания.
Абу Бакр оставался во главе республики два года; его время было полностью занято молитвами, покаянием и отправлением правосудия, всегда смягчённого справедливостью и милосердием. По истечении этого срока старый друг пророка почувствовал приближение смерти; тогда он, с согласия верующих, назначил бесстрашного Умара своим преемником.
– Я не желаю этого места, – сказал Умар.
– Но место желает вас, – ответил Абу Бакр.
И действительно, Умар, приветствуемый ликующими возгласами армии, был провозглашён халифом 24 июля 634 года.
Умар уже показал блестящие доказательства своей храбрости в войнах Мухаммеда; но он считал достоинство халифа концом своей военной карьеры и призывающим его лишь к религиозным обязанностям. В течение десятилетнего правления он занимался только руководством молитвами верующих, подавая пример умеренности, справедливости, воздержания и презрения к величию. Его пища состояла лишь из ячменного хлеба или фиников, его питьём была вода; одежда, в которой он проповедовал народу, была залатана в двенадцати местах.
Один персидский сатрап, пришедший выразить ему почтение, застал его спящим на ступенях мечети Медины, и тем не менее он уже распоряжался такими значительными сокровищами, что назначил пенсии всем сподвижникам пророка. Те, кто участвовал в битве при Бадре, получали по 5000 золотых монет в год; те, кто служил под началом Мухаммеда, получали не менее 3000, и все воины, отличившиеся при Абу Бакре, уже пользовались некоторыми наградами.
Именно в правление Абу Бакра и Умара мусульмане совершили самые удивительные завоевания: за эти двенадцать лет они одновременно атаковали двух соперников – Йездигерда, внука Хосрова, царя Персии, и Ираклия, римского императора; они подчинили Сирию, Персию и Египет; привели к покорности тридцать шесть тысяч городов, крепостей и замков; разрушили четыре тысячи храмов или церквей и воздвигли четырнадцатьсот мечетей для проповеди религии Мухаммеда.
Эти завоевания были осуществлены наместниками, назначенными халифом; среди них выделялись Халид – «меч Божий», Амру – завоеватель Египта, Абу Убайда – защитник, а также победитель Сирии. Но всякая зависть к чину была так забыта этими людьми, у которых не было иной цели, кроме торжества Корана, что они поочерёдно переходили от командования к самым низшим обязанностям, и самый младший воин или вольноотпущенник ставился во главе самых опытных воинов, не вызывая ни ропота, ни колебаний в повиновении.
Эти сподвижники Мухаммеда, совершенно незнакомые с географией, интересами, силами, политикой и языком соседей, которых они собирались атаковать, даже не думали ни о разработке военных планов, ни об укреплении через союзы, ни о налаживании тайных связей в странах, куда собирались вторгнуться. Их инструкции военачальникам были общими и простыми. Сохранились указания Абу Бакра двум командующим сирийской армии – Абу Убайде и Калебу; они дают представление о духе, которым были движимы первые мусульмане.
«Помните, – говорил он им, – что вы всегда пребываете перед лицом Бога, на пороге смерти, в ожидании Суда и надежде на рай. Избегайте несправедливости и угнетения, советуйтесь с братьями и старайтесь сохранять любовь и доверие своих войск. Когда сражаетесь в битвах за Господа, ведите себя как мужчины, не поворачивая спины; пусть ваша победа никогда не будет осквернена кровью женщин или детей. Не уничтожайте пальмовые деревья, не сжигайте пшеничные поля, не рубите плодовые деревья, не причиняйте вреда скоту, кроме как забивая животных, необходимых вам для пропитания. Если заключите какое-либо соглашение – будьте верны ему, и пусть дела всегда соответствуют словам. По мере продвижения по вражеской земле вы встретите людей благочестивых, живущих в монастырях и стремящихся служить Богу своим способом – не убивайте их и не разрушайте их обители. Но вы также встретите другого рода людей, принадлежащих к сборищу Сатаны и носящих тонзуру на макушке – тем не давайте пощады, если они не примут ислам или не согласятся платить дань.»
Я не знаю, какое различие усматривал Абу Бакр между этими двумя видами монахов или священников; но это был первый случай, когда мусульмане столкнулись с христианами, и Абу Бакр, судивший о них издалека, возможно, руководствовался каким-то неизвестным нам предрассудком. Впоследствии мы не видим, чтобы мусульмане, оказавшись на землях христианства, отказывали в пощаде тонзурированным священникам.
Азиатские провинции империи и Персия, поочередно опустошаемые во время войн Хосрова и Ираклия, в VII веке претерпели изменения в своей организации и населении, которые нам трудно полностью понять из-за недостаточности древних исторических источников. Крепости были разрушены, вера в силу границ утрачена, администрация дезорганизована, а повиновение перестало быть регулярным. Однако нужда, страдания под чужеземным игом, вероятно, бегство или увод большого числа рабов заставили провинциалов действовать более самостоятельно, больше заниматься своими делами и меньше противиться войне. Казалось, они вновь стали солдатами, хотя и очень плохими. В конце правления Ираклия снова заговорили о армиях, соответствующих размерам его империи – стотысячных войсках, чьи мужество и дисциплина, однако, указывают на то, что они формировались лишь из провинциальных и азиатских ополчений. Имена случайно упомянутых офицеров – уже не греческие, а сирийские; города, кажется, обретают независимое существование; их собственные граждане стараются защищать их, их собственные магистраты ведут переговоры, а интересы империи забываются ради местных выгод. Мусульманским генералам пришлось сражаться не столько в стране, где вся жизненная сила была уничтожена долгим деспотизмом, сколько в стране, где эти силы утратили общее действие из-за анархии и вражеской оккупации. Отсюда, без сомнения, проистекало то, что после победы они всегда находили возможность пополнять свою армию за счет самих врагов.
Мусульмане не нападали на персов или сирийцев врасплох; они всегда предваряли бой ультиматумом, предлагая врагам тройной выбор: либо принять ислам и разделить все почести, наслаждения и полноправие истинных верующих, либо покориться, согласившись платить дань, либо испытать военную удачу. До нас дошло обращение Абу Убайды к Иерусалиму; оно характерно: «Мир и благоденствие тому, кто следует прямым путем. Мы требуем от вас свидетельства, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед – пророк Его. Если откажетесь – обязуйтесь платить дань и немедленно подчинитесь нам; в противном случае я приведу против вас людей, которые находят больше удовольствия в смерти, чем вы – в питье вина и вкушении свинины; и я не отступлю от вас, пока не испрошу у Бога позволения уничтожить сражающихся среди вас и обратить ваших детей в рабство.»
В том же году, когда умер Магомет (652), Абу-Бекр отправил две армии: одну против Персии, другую – против Сирии. Первая, под предводительством Халида, продвинулась до берегов Евфрата и подчинила города Анбар и Хиру близ развалин Вавилона. Персидское царство в то время было раздираемо гражданской войной между преемниками Хосрова II. Однако мусульмане, вместо того чтобы продолжать завоевания в этом направлении, отозвали Халида и направили его на соединение с Абу-Убайдой, командовавшим второй армией в Сирии.
Тот, предложив римлянам выбор – признать истинного Бога и его пророка или платить дань (что едва ли было ими понято), напал на Босру, один из укрепленных городов, прикрывавших Сирию со стороны Аравии. Сирийцы едва ли могли поверить, что им угрожает нечто большее, чем одно из тех нашествий арабов из пустыни, к которым они привыкли. Их правитель, Роман, думал иначе: он уговаривал своих соотечественников сдаться, а когда их возмущение лишило его власти, ночью и предательски впустил арабов в крепость. На следующий день, перед изумленными земляками, он публично исповедал новую веру в единого Бога и в Магомета, пророка Божьего. Это стало началом тех измен, которые нанесли империи роковой удар. Все недовольные, все, чьи амбиции превосходили их положение, все, кто таил в себе обиду и жаждал мести, – все они могли быть уверены, что будут с распростертыми объятиями приняты в армию победителей, чтобы, в зависимости от заслуг, либо разделить равенство с солдатами, либо получить командные посты и великолепные награды, предназначенные их предводителям. Даже в тех провинциях, где римляне никогда не могли набрать ни единой когорты, мусульманская армия пополнялась перебежчиками с такой быстротой и легкостью, что ясно показывало: именно правительство, а не климат, дает или отнимает мужество.