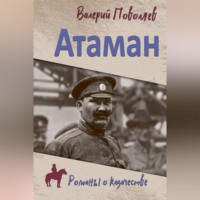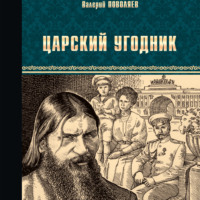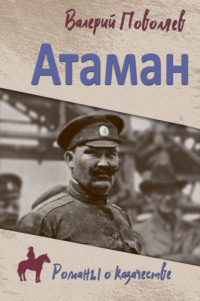Полная версия
Сын Пролётной Утки
И еще он с сожалением подумал, что надул своего старого друга – пообещал быть точным и через пятнадцать минут явиться при полном параде, да ничего из этого не получилось, Воробьев будет нервничать, злиться, потом, стуча палкой, ворвется в силантьевский номер. Одно плохо – найдя своего товарища и, может быть, в лице Силантьева – свою молодость, свое прошлое, и тут же потеряв все это, Воробьев тоже может не выдержать…
Не тревожный ли это звонок, не намек ли Воробьеву, что ему тоже пора собираться в дорогу. И пусть следующее поколение не пойдет по телам и жизни так, как неожиданно пошли люди из поколения Силантьева и Воробьева…
Перед взором Силантьева медленно зажглась звезда, разгорелась, свет её был манящим, успокаивающим. Звезда покачнулась и начала неспешный свой полет, следом за нею, сразу поверив в нее, как в судьбу свою, полетел и Силантьев.
1989 г.Ночная рыбалка
Светлой памяти В.П. Горбунова
Давно не выходил Шмелев в море, уже начал отвыкать от него, запах волн и соли стал забываться, звук прибоя, течений не возникал в ушах, как не возникал и удивительный блеск солнечных лучей на воде, – он тоже исчез из его жизни, уже не ласкал взгляд… И тут ничего не поделаешь – возраст брал свое.
В прошлом Шмелев на судах прошел все существующие моряцкие ступени, ни одной не пропустил, – начиная с трюмного матроса, кончая капитаном огромного пассажирского лайнера, немецкого, в сорок четвертом году потопленного, а после войны поднятого со дна Балтийского моря.
А потом медики подвели черту под его трудовой деятельностью в морях-океанах и списали на берег. Идти в диспетчеры Шмелев не захотел – не его это дело… Некоторое время он сидел на суше, читал книги, преподавал в институте, играл на гитаре и хриплым, но очень приятным голосом пел под звук струн бардовские песни, сочинил две книги и издал их, после чего понял, познал то, что уже познал: не его это удел.
Тогда он отыскал на кладбище кораблей небольшое японское суденышко, быстро и ловко восстановил его, сложный иероглиф, выведенный на борту вечной краской, которую не брали ни вода, ни солнце, ни едкая морская соль, вытравил и по трафарету вывел новое название – «Падь Волчанец».
Что связывало Шмелева с этой падью, не знал никто; в прошлом там располагались две тюрьмы (одна из них – строгого режима, впрочем, тюрьмы располагаются там, наверное, и сейчас, эти заведения не имеют привычки менять адреса), к тюрьмам примыкал небольшой поселок, вольно разбросанный по сопкам, вполне возможно, там жил кто-то из родичей Шмелева… С дороги поселок обычно узнавали по двум крупным, словно бы летящим по воздуху, слипшимся в пространстве вывескам; на одной, с надписью «Китайская аптека», предлагали новейшие лекарства из Поднебесной, на другой – качественные ритуальные услуги, местные, естественно.
Народ, читая эти вывески, спарившиеся на ветру, благодушно ухмылялся: чего только не встретишь в этой жизни. А вообще, время ныне такое, что любой пиар хорош… Кроме некролога, естественно.
Очень скоро Шмелев набрал туристов, прибывших на Дальний Восток порыбачить, и вышел с ними в сторону маяка Скрыплева.
Маяк этот – знаменитый, является таким же символом Владивостока, как и вантовый мост, переброшенный на Русский остров, нынешний ГУМ на Светланской улице – бывший магазин «Кунст и Альберс» или знаменитый Восточный институт, которым до последнего времени руководил профессор Турмов – давний знакомый Шмелева.
Маяк Скрыплева – прочный, словно бы отлитый из чугуна, и, хотя был возведен из простого кирпича еще при царе, с его стенок не свалился ни один кусок обмазки, ни один кусок кладки – так все прочно держалось; сохранилась также и казарма, расположенная рядом, в которой когда-то был размещен женский батальон.
Батальон неизменно привлекал к себе рыбаков, как магнитом тянул, и хотя в акватории маяка рыба особо не водилась, в большом количестве плавали только медузы и среди них были опасные, способные вызвать лихорадку, подле маячного причала всегда крутились рыбацкие лодки.
Надо полагать, маяк Скрыплева сыграл немалую роль в устройстве многих семейных судеб во Владивостоке, иной благодарный муж приплывает к нему поклониться как к законному свату, выпить водки, чокнувшись стопкой о его просоленный, пахнущий лежалой рыбой причал.
Впрочем, у Владивостока маяков несколько, но только один, названный в честь командира корвета «Новик» Скрыплева, стал визитной карточкой города. Есть и другие приметные места: Ворошиловская батарея и дом «Серая лошадь», Гнилой угол, Орлиная сопка и Пушкинский театр, сопка Крестовая и сопка Любви… Впрочем, сопка Любви – это особая стать города.
Все дело в том, что рядом с нею находится призывной пункт военкомата, куда привозят новобранцев со всего города, а может, и со всего Приморского края, но данные эти, надо полагать, секретные… Сюда же стекаются и девочки – подружки новобранцев, невесты, возлюбленные. Новобранцы особо не стесняются, стараются оприходовать подружек в ближайших кустах, ведь кто знает – может, видятся в последний раз… Жизнь ведь – штука квадратная, можно и застрять где-нибудь в узком месте.
С другой стороны, некоторые пары вообще видят друг друга впервые, но это никак не мешает им соединиться на сопке Любви, и в этом также заключена примета современной жизни.
Сосед Шмелева – паренек призывного возраста с чубом до подбородка, как-то рассказывал с нескрываемым восторгом:
– Я тоже был на сопке Любви – интересно там… Сопка шевелится, сопит, дышит, шумит, потеет, кряхтит, корячится, стонет, радуется, хрипит – ни одного неподвижного места нет, ни одного незанятого куста или травяной куртины – все занято, все утонуло в любви. Смотрю, один парень рядом со мною дрючит девочку – задрал ей юбчонку до лопаток и жарит. Сопит при этом, как паровоз, набирающий скорость, только пар не извергает. В это время к нему подходит второй парень. С сигаретой в зубах. Просит: «Дай спички, прикурить нечем» – и парень, не прерывая процесса, говорит ему: «Возьми в правом кармане…» И парень как ни в чем не бывало лезет в правый карман.
Но владивостокская сопка Любви – это мелочь, детский лепет, сущая ерунда по сравнению, например, с Курилами, с островом Шикотан, где женщинам, обрабатывающим по вербовке сайру, подчинена целая территория любви. Женщин там – тысячи, мужчины встречаются очень редко, ходят они, боязливо озираясь, тихие, как мухи… И духа мужского на Шикотане, естественно, нет и в ближайшие полтора века вряд ли он появится.
Шмелев бывал на Шикотане, когда-то там даже служил, ловил рыбу, жил, инспектировал воды на маленьком юрком катере, на сайру смотреть совсем не мог – от нее нутро у всякого шикотанца выворачивало наизнанку… Когда мужчина появлялся в зоне внимания островных баб, они обязательно выскакивали наружу и орали:
– Командир, иди к нам! Или силой затащим!
Как-то они затащили к себе двух отбившихся от своего наряда пограничников. Бечевками перетянули им мужское достоинство, чтобы колотушка не опускалась, торчала, как оглобля, четыре толстых бабы сели на ноги, на руки и по одной бабе-потребительнице на каждого парня сверху. И пошло, и поехало… Такого нигде не видывали, ни в одной террористической организации. Кричи не кричи – бесполезно, не докричишься, помощь не придет.
Один парень так и погиб в тот вечер в потном пекле, второй изловчился, сумел дотянуться до автомата и стал стрелять короткими очередями, чтобы подольше растянуть запас патронов – его спасли. Вот что могут сделать озверевшие бабы.
В молодости, будучи курсантом мореходной «вышки» – высшего училища, Шмелев попал на плавучую базу, стоявшую по соседству с Шикотаном, в море. Ловкие женщины размещали дольки сайры в банках розочкой, делать это умели только их руки, но практика для того, чтобы получалось, нужна была большая, поэтому розочки получались не у всех, – рассыпались неряшливо, дольки падали, сминались, выполнить норму было трудно, милые создания, особенно молодые, часто плакали, – ведь если не выполнишь норму, то и зарплату не получишь…
Курсанта Шмелева, прибывшего на практику, недвусмысленно предупредили:
– На плавбазе передвигайся только по правому борту, по левому не ходи – по левому живут бабы… Понял, чем это грозит?
Курсант Шмелев, конечно, понимал, чем грозит, но очень смутно. На всякий случай наклонил голову:
– Понял!
Но однажды все-таки лопухнулся и очутился на левом борту базы: спешил, думал, что проскочит, но не проскочил – даже до середины борта не дошел. Открылась дверь одной из кают и Шмелева сильным рывком затянули в помещение.
В каюте находились четыре женщины.
– Есть один мущщинка! – довольным басом произнесла толстая складчатая баба с маленькими заплывшими глазами и крохотным, как у ежика, лбом – надо полагать, старшая в этом пространстве, уперев руки в боки, она подступила к курсанту. – Ну!
Внутри у Шмелева все похолодело, язык во рту прилип к нёбу – не оторвать. Еле-еле он нашел в себе силы освободить его и упрямо помотал головой:
– С тобой я не буду.
Толстуха хмыкнула насмешливо, во взгляде ее мелькнуло удивление.
– А с кем будешь? – спросила она.
Курсант сглотнул слюну и, чувствуя, как холод внутри перекрывает дыхание, огляделся, остановил взгляд на худенькой, с выпирающими на спине лопатками женщине, одетой в вытертую трикотажную кофту:
– Вот с ней!
– Бабы, але-гоп! – скомандовала складчатая и сделала ладонью красноречивое движение снизу вверх, словно бы мячик подбросила. – Выметаемся отсюда! Оставим этих двоих… счастливчиков! – Бросила завидущий взгляд на свою худенькую товарку и первой вышла из каюты.
Две другие женщины беспрекословно подчинились ей, хотя характеры имели сволочные и могли лаяться и приставать к бедному курсанту сколько угодно… Но авторитет старшей в их коллективе был незыблем.
Так Шмелев уцелел, ослабший прошел вдоль всего левого борта и вернулся в свою каюту…
…Тот поход с рыбаками-туристами был удачным, все набили себе сумки отборной камбалой, так называемой палтусовкой. Мясо палтусовки – самое вкусное из всех камбальих пород, некоторые нетерпеливые туристы прямо в море жарили рыбу – Шмелев перед отплытием купил три керосинки, шесть сковород и десяток литровых бутылок ароматного подсолнечного масла, имущество это оказалось очень нужным, – заодно научил клиентов, как в одно короткое мгновение избавлять камбалу от кишок и всего лишнего, что в ней есть…
Делается это просто: надрезаешь рыбе голову, надсекаешь хребет и отделяешь голову от тушки. Кишки вместе с начинкой вылетают вслед с головой наружу, для чаек эта еда считается самой лакомой…
Ученики у Шмелева оказались толковыми, науку освоили быстро, так что жареную палтусовку попробовали все присутствовавшие, даже две худосочные жеманные девицы, которые о себе говорили, что они работают в Большом театре…
Новым делом маститый морской капитан увлекся, за два года исходил на своем «Волчанце» все здешние заливы, познал, как собственные ладони, рыбные ямы, банки, подводные леса, крабовые колонии, ловил лакедру и сему, зубатку и даже рыбу фугу – все у него получалось… А потом Шмелев заболел – поселилось у него внутри что-то тяжелое, чужое, лишающее сил, иссасывающее, целый месяц он пролежал у себя в квартире на Океанском проспекте, лечился травяными снадобьями, отпивался отварами из целебных кореньев, из ягод и коры кустарников… За месяц до стона соскучился по морю, свежему воздуху, ветру, крикам чаек и стуку машины своего катера.
Не стерпел и вышел в море…
Некоторое время он чувствовал себя нормально, тешил себя мыслью, что выпрямится, вырулит, дальше все пойдет по-старому, но через пару недель таинственная холодная хворь вновь обозначила себя. Поразмышляв немного, Шмелев решил не обращать на нее внимания, а существовать вместе с нею и дальше идти вдвоем. В конце концов, если захочет – отцепится.
Иногда обходилось без осложнений, иногда приходилось глотать обезболивающие пилюли – всякое было, в общем, но запланированных походов в океан он не отменил ни одного.
На этот раз он решил сходить на кальмара. Стоял октябрь, самое начало, теплые дни, кальмар должен был не просто клевать, а брать нахраписто, с лёту, у него наступала пора любви, моря и заливы в такое время делались веселыми, шумными, волны иногда взрывались громкими таинственными брызгами, словно бы попадали под небесный дождь, потом стихали до следующего брызгопада. Шмелев любил рыбалку на кальмаров.
Отходил «Волчанец», как всегда, от Змеинки – причала, для береговых дел не особо приспособленного, но главное было не это, а совсем другое – тут и глубина была подходящая, и подъехать на машине можно было к самому борту, и народ обитал на причале незлобивый – и прикрыть мог, и бензинчиком выручить, и стопку водки налить, если кто-то сильно продрог, и даже кредитную линию до получки открыть… Шмелев держался здешних причалов – нравились они ему.
Отходили поздно. Вечер уже перешел в ночь. Воздух был теплый, гудел от разных звонкоголосых жуков, цикад, прочих летающих и нелетающих обитателей ночи. Владивосток – город южный, тут водится живность, которая в России лишь где-нибудь в Сочи и обитает, и если бы не океан, не ветры, которые приносятся из бескрайних вселенских просторов, жизнь здесь была бы как в Сочи, ничем не отличалась.
Стоило немного выйти из-под прикрытия берега, как теплый воздух исчез куда-то, растворился, из черноты ночи подул ветер – поначалу слабенький, едва ощутимый, потом он усилился и сделалось холодно. Шмелев стоял за штурвалом, неспешно крутил его, помощников на «Волчанце» было немного, только один человек – опытный моряк Гоша Кугук, который в любую погоду, даже в мороз, признавал лишь один вид одежды – тельняшку.
Даже если на улице будет трещать мороз и свистеть лютый ветер, Гоша все равно выйдет из дома на улицу в тельнике, да на голову наденет старый танкистский шлем… В исключительных случаях может натянуть на себя две тельняшки, говоря при этом, что в двух одеждах он чувствует себя, как в шубе, даже лучше, чем просто в шубе.
Гоша был на «Волчанце» всем (кроме капитана) – и механиком, и мотористом, и палубным матросом, и трюмным, и старпомом, и… – всем, в общем. Раньше он плавал на больших судах, ловил рыбу, а сейчас на большие суда его уже не брали… Да и не тянуло Гошу туда.
Вскоре ветер, облизывавший береговую кромку и щедро угощавший судно холодом, утих, тепло вновь взяло свое и туристы, сгрудившиеся на палубе, перестали стучать зубами…
Прожектор, вспарывающий широким лучом темноту, будто мечом, кромсал пространство без всякой пощады, иногда под днище катера подкатывала волна и судно громко, всей тяжестью прикладывалось о воду, двигатель бубнил что-то возмущенно, кашлял, грозясь умолкнуть, но быстро приходил в себя, и «Волчанец» продолжал двигаться дальше.
Шел Шмелев по памяти, карта не была нужна ему, думал о своей жизни, в которой много чего было, и хорошего и плохого, – и через час с небольшим хвостиком уже находился на месте.
– Распределение такое: с двух бортов берем кальмара, с кормы – рыбу, – распорядился Шмелев, заглушив машину и швырнув якорь в черную пузырящуюся воду. – Тут хорошая камбала-палтусовка попадается, удобнее всего ее брать с кормы. – Капитан приподнялся на мостике, огляделся. – Гоша, где ты?
– Здеся, – Гошин голос раздался из-за рундука, где они прятали спиннинги.
– Включай иллюминацию, Гоша, – приказал ему Шмелев.
Через полминуты горели все прожектора, софиты, лампы, светильники, фонари, фары, световые пушки, которыми были вооружены борта «Волчанца», – и слева и справа. Судя по прошлым временам, кальмар должен идти в эту пору на свет, будто заведенный, свет увлекает его, затягивает в любовные игры, заставляет танцевать, кружиться в воде в пьяном хороводе. Как предполагал Шмелев, такое должно произойти и нынешней ночью. Безумные игры кальмара, безостановочный клев, когда добыча хватает приманку – яркую елочную игрушку, совершенно не похожую на блесну, хотя и именуемую блесной, еще в воздухе, в полете над водой, не успевшую даже коснуться волны, с силой дергает… Местный народ, повидавший в жизни многое, называет такую рыбалку жором.
Слово, конечно, не самое благозвучное, но довольно точное. Шмелев вначале не принимал его, морщился, когда слышал от кого-то, но потом привык… И в конце концов, настолько привык, что сам стал употреблять его.
При свете софитов, как в театре, вода изменила цвет и глубину, в ней двигались игривые тени, на поверхность вылетали длинные извилистые рыбы, похожие на молодых змей, ловко взрезали воздух и снова уходили в воду, оставляя за собой белесые пузырчатые следы.
Несмотря на то что море было полно жизни и поклевки должны были идти одна за другой, поклевок не было. Ни одной не было, вот ведь как.
Берегов, земли не было видно, хотя земля находилась недалеко, – из темноты выпорхнула маленькая синяя птичка, облетела «Волчанец» кругом, словно бы подыскивала себе аэродром для посадки, довольно быстро сориентировалась и, цокнув коготками о металл, уселась на поперечину мачты.
Следом за птицей появилась большая белая бабочка, похожая на комок снега, именуемая рыбаками бражником, но это был не бражник, название у бабочки было какое-то другое… Вообще-то, бражник – это большой ночной мотыль, очень красивый, с прыгающим полетом, но в гости прилетел не мотыль – прилетела именно бабочка. Бабочки от мотылей отличаются очень заметно.
Прошло минут тридцать. Не было ни одной поклевки, все забросы, – и на кальмара и на рыбу, – были пустыми. Некоторые нетерпеливые добытчики начали недовольно ворчать, косо поглядывая на капитана, но Шмелев был здесь ни при чем, он доставил ворчливую публику в самое уловистое место в Тихом океане.
Ропот заставил Гошу совершить пробежку вдоль обоих бортов «Волчанца».
– Не гудите, граждане, не гневайте морского бога, у него все расписано: жор будет! Надо только дождаться.
– Сколько ждать-то его?
Гоша развел руки в стороны:
– Если бы я знал… По радио связались с канцелярией морского владыки, ответ состоял лишь из одного слова: «Ждите-с!»
Я тоже был на этой рыбалке; компания наша, лишь пару часов назад прилетевшая из Москвы на утомительно-гулком огромном самолете, – три человека, Скуратов, Коткин и я, – узнав в аэропорту, что готовится поход на кальмаров, несмотря на усталость и самолетный гуд, застрявший в ушах (как его вытряхнуть оттуда, никто не ведал), определилась единогласно: идем на кальмара! На «Волчанец», который был забит рыбаками под завязку, нам помог устроиться Володя Воткин, очень славный человек, здешний следователь (а отец его, Александр Сергеевич, позже здорово подсобил с чисткой кальмаров – штукой, нам совсем неведомой, – но это было позже), так что все перипетии рыбалки той происходили у нас на глазах и остались в памяти.
Прошел еще час. Кальмарьих поклевок – ни одной. Начала клевать лишь камбала, очень вяло, еще клевали бычки, но они не считались съедобной рыбой; дергали они энергично, засасывали в свои бездонные глотки все что угодно, оказавшееся на крючке, – окурки, пуговицы, куски тряпок и протирочной ветоши, могли клюнуть и на гайку, только железную гайку было трудно приладить к крючку, на кусок бумаги, вырванный из блокнота, обломок расчески и резиновый каблук от сапога – на что угодно, словом… Люди от бычков брезгливо отворачивались, выбрасывали их чайкам.
Чайки поглядывали на такую еду с опаской – бычок запросто может разодрать плавником брюхо…
Выглядели бычки внушительно: большая голова с начальственно выпученными глазами, тяжело провисшее пузо, набитое всякой всячиной, внушительный верхний плавник, похожий на парус, и огромный рот, способный заглотить сразу трех таких бычков, вместе взятых, не пережевывая, определить их в резиново-раздвижной, очень вместительный желудок и следом заглотить очередных трех бычков… Бычки – рыба будущего, словом.
Бражников вокруг «Волчанца» сейчас крутилось много, сотни две… или три, наверное, не меньше. Впечатление было такое, будто из черной небесной глубины, прямо из звезд валится крупный беспорядочный снег, подхватываемый движением воздуха, но до воды не добирается и устремляется обратно вверх, в вязкую черноту… Некоторые бражники все-таки не рассчитали, угодили в воду, барахтались, хлопали белыми, казавшимися светящимися крыльями, пытались оторваться от липкой океанской поверхности, но редко у кого это получалось, крылья намокали, и обреченные бабочки делались добычей рыб.
Прилетели две небольшие серые чайки, неведомо как добравшиеся сюда – ведь до Змеинки было не менее тридцати километров.
Поскольку клева не было – ни кальмарьего, ни рыбного, – мы уселись за стол, тут же появилась невесть откуда извлеченная (едва ли не из двигателя) бутылка шестизвездочной «метаксы» – крепкой, янтарной, с неожиданным вишневым привкусом, нашлась и закуска – коржик, один на всех, очень похожий на подержанный, уже побывавший на чьем-то столе, мы его разломили на несколько частей и разлили напиток по кружкам, склепанным из нержавейки.
Усталость, сидевшая в нас, начала отступать после нескольких первых глотков, – вот это напиток! – вместе с усталостью потихоньку, полегоньку стал отползать и сон.
Предметы, которые расплывались перед глазами, обрели прежние четкие контуры – и край борта, прыгающий в такт волнам вверх-вниз, и стол, на котором рядом с бутылкой и тускло поблескивающими кружками расположилась коробка с тяжелыми морскими блеснами, и старое мокрое полотенце, которым рыбаки, сдернув с крючка добычу, вытирали испачканные слизью руки, и две огромные кружки из нержавеющего металла, размером не менее кастрюли – видать, были предназначены для супа…
Все предметы теперь лезли в глаза, застревали в мозгу, отпечатывались в голове, – вообще взгляд в этом натянутом нервном состоянии засекал всякую мелочь, даже незначительную, – через некоторое время усталость стала снова добивать нас и никаких способов, чтобы бороться с нею, не было, похоже… Кроме «метаксы», может быть.
Две серенькие скромные чайки, исчезнувшие было – чего взять с катера, которого удача обходит стороной? – появились вновь, но близко уже не подлетали, не подплывали, держались на границе света и тьмы, ожидали чего-то…
Первый кальмар клюнул в четыре часа ночи. Клюнул резко, будто к «елочной игрушке» – блесне привязали кирпич и дернули за него из глубины океана. Рыбак-добытчик – упитанный мужичок с пушистыми пушкинскими бакенбардами неверяще охнул и подсек добычу.
Еще из-под воды кальмар пульнул в рыбака длинной грязной струей, которую сочинители хоть и сравнивают с чернилами, но это были не чернила… Чернилами начинены, скорее всего, африканские или южноамериканские кальмары – ядовитые, которые ни одной тряпкой со своей физиономии не счистишь, а у дальневосточных особей это обычная, пахнущая рыбьими потрохами грязь. Грязь эту можно легко смахнуть с себя ладонью.
Останется только неприятное ощущение. Вылетев вслед за блесной на свежий ночной воздух, кальмар издал хриплый птичий вскрик и снова пустил в туриста грязную струю.
Именно в этот момент он может сорваться с крючка и уйти, поскольку на «елочных игрушках» нет крючков с бородками, которые есть, допустим, в троллинговых блеснах, поэтому, выбирая леску, нельзя останавливаться ни на секунду, ни на мгновение, иначе кальмар уйдет, хотя ни ловкостью, ни изворотливостью рыбы он не обладает. Рыбак с бакенбардами уйти ему не дал.
Все, жор начался!
Наша бригада поспешно оставила неприконченную бутылку «метаксы» на столе – даже горлышко не успели заткнуть пробкой.
Клев пошел беспрерывный, холостых забросов почти не было, в искристо-темную, испещренную гибкими пузырчатыми следами воду вновь начали шлепаться яркие белые лепешки – с берега прилетела новая армия бражников.
Кальмары оказались хорошо вооружены и подготовлены к схватке, каждый обладал костяным клювом, в кожу эти ребята вгрызались до крови, действовали, как речные раки, когда их вытаскивают из обжитых нор, и были, конечно, правы – они защищали себя.
«Волчанец» в несколько мгновений преобразился до неузнаваемости, воспрянувший духом народ ахал, ухал, охал, гикал, свистел, цокал, подвывал, крякал восторженно, момент жора выпадает редко, может быть, один раз в году… Но у многих рыбаков, бывает, не выпадает вообще.
В общем, нам повезло: мы стали свидетелями (пардон, не только свидетелями, а и участниками, действующими лицами) явления редкого и очень азартного… Куда-то подевались и усталость, и сон с его липкой, опутавшей ноги и руки вялостью и нежеланием двигаться, из ушей истаял самолетный гуд – жизнь-то, оказывается, продолжается…
И в ней много приятного. Каждый вытащенный из воды кальмар старался отличиться – прыскал туристу на память в лицо своим грязным дерьмом, сильным сокращением мышц выбитым из желудка, от струй приходилось уворачиваться, как на арене цирка, иногда это удавалось, иногда нет, били кальмары метко, людей, которые вышли бы из этих соревнований по стрельбе с сухим счетом, не было.