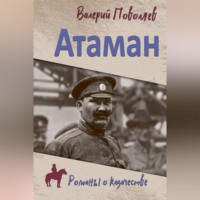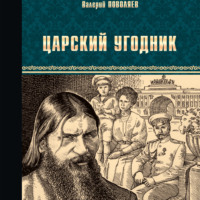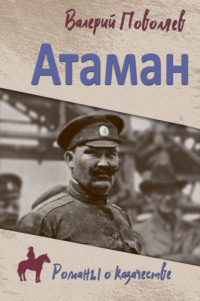Полная версия
Сын Пролётной Утки
Силантьеву вручили китель с золотыми погонами, офицерскую амуницию, причитавшуюся капитану первого ранга по списку, ничем не обошли – выдали даже новый кортик с костяной ручкой и лаковыми ножнами. Силантьев приехал в гостиницу оглушенный, вялый от того, что устал, сердце, до этой минуты спокойно работавшее, не подававшее сигналов тревоги, вдруг стронулось с места, нырнуло вверх, повело себя лихо – Силантьев, чтобы управиться с ним, втянул сквозь зубы воздух, задержал дыхание – с сердцем своим он, в конце концов, справится, не подвело бы тело, – руки-ноги, которые отказывают ему, не повинуются – руки, вон, висят, как плети, еле коробку с формой дотащил до номера, не подвели бы легкие с надсеченными верхушками и продранные в нескольких местах кишки. Но все равно день нынешний, адмирал, трудная речь его – все это уже вошло в Силантьева, разместилось в нем, в голове, в естестве, и будет жить до последнего предела. И если раньше Силантьев не боялся смерти, даже напротив – часто ждал её, как единственное избавление от мук, от Колымы и пакостливого обращения охраны и начальства прииска с теми, кто вручную из стылой воды выуживал зеленые невзрачные крупинки золота, то сейчас он будет бояться смерти, поскольку стал нормальным человеком. Таким, как все.
Но чтобы жить, как все, ему слишком многое надо сменить – кровь, кожу, кости, надо сменить воздух и воду. Он уедет из Магадана в какое-нибудь райское место, где всегда тепло и отогреется хоть немного.
Что-то заставило его подняться и выглянуть в коридор – внутри ровно бы прозвучал звонок, Силантьев услышал усталые шаркающие шаги и понял: идет человек, еще один человек, которому плохо, который никак не может разобраться в себе самом и в происходящем, смят, перетрясен, словно старый матрас, из которого выбили пыль, лежалые сплюснутые комки ваты равномерно раздергали, он вывернут наизнанку, как вывернут и Силантьев, и может, ему нужен собеседник, утешитель, пастор, чтобы вместе прочитать молитву, – что ж, Силантьев готов стать собеседником, и пастором, готов, если понадобится, выслушать признание в грехах и отпустить их покаявшемуся.
По коридору двигался седой, с надсаженным дыханием старик, щупал пространство перед собою новенькой, пронзительного сливочно-желтого цвета палкой, другой рукой он загребал воздух, будто пловец. Что-то важное было перебито в этом старике – кость ли, нерв ли, – он старался двигаться прямо, но прямо не получалось, его все время заносило в сторону взмахивающей руки, через каждые два шага он вносил поправку в свою походку, разворачивал корпус и делал шаг в сторону – старик, как корабль с испорченным рулем, двигался углами. И что интересно – на этом дряхлом, разбитом старике, которого не то чтобы до корабля, до будки охранника, преграждающего дорогу на пирс, нельзя было допускать, чтобы из-под ног его случайно не выскользнула земля и не оказался корявый кривой шаг последним в его жизни, – красовался китель с золотыми флотскими погонами. Два просвета, две звезды – капитан второго ранга. Силантьев не мог утверждать, что был знаком со стариком, но в том, что когда-то его видел, уверился сразу.
Тесна земля, тесен мир, стежки-дорожки везде узкие – не только земные, но и морские. Душная волна поднялась в Силантьеве – она накатила на него из прошлого, из доколымского еще времени, когда жизнь была безоблачна и все цели ясно видны, Силантьев был молод и этот старик, вероятно, тоже был молод, хотя вряд ли когда трясущаяся седая голова с клочковатыми щетинистыми бровями была молодой. Из проваленного беззубого рта вырывался сырой птичий клекот – с дыханием у этого ровесника адмирала Ушакова, как и у самого Силантьева, не все в порядке.
– Славка! – вдруг просипел старик, выронил палку и сделал два кривых шага к Силантьеву. – Славка!
Боже, кто это может быть? Силантьев приложил руку ко лбу на манер былинных богатырей, чтобы получше рассмотреть старика.
– Славка! – в сипе старика послышался обрадованный треск, он закашлялся и остановился, положив на грудь руку, в которой только что держал палку, – словно бы сам себя остановил, потом, по-птичьи коротко взмахивая свободной рукой, будто крылом, нагнулся, потянулся за палкой. – Ты не узнаешь меня, Славка?
– Простите, нет, – растерянно пробормотал Силантьев.
– Ах ты, гад какой! – Старик скрипуче, будто глотку свою никогда ничем, кроме кипятка и водки, не смазывал, рассмеялся. – Ну и гад же ты! Тебя ведь тоже с таким трудом узнать можно. Если только по гордому поставу головы, а так от знаменитого сердцееда Славки Силантьева ничего не осталось. Если только, извини, чирка… Да и то, вероятно, она уже из другого материала, из теста слеплена. Извини меня, Славка! – Старик выпрямился, махнул палкой о пол и плечи его расстроено дернулись.
– Кто вы? Или кто… ты? Я уж не знаю, как можно звать, на ты или на вы?
– На ты, Славка, на ты. Забыл, как у меня бывал в гостях, забыл, как под холодное шампанское вместе ставили хрусталь – под каждую бутылку новый. Ты ведь любил пить шампанское из хрусталя?
– Любил, – неуверенно ответил Силантьев. Он пока не мог понять, кто же этот старик? Боевой сподвижник адмирала Ушакова был ему знаком, но кто он? Может, сошел со страниц учебников истории?
– Забыл, как мы вместе пели под гитару. Ты сочным баритоном, работая под цыганского барона, а я… я уж не знаю, под кого пел я. Голосишко у меня был не в пример твоему – жиденький.
– Все, я узнал тебя. И голосишко твой был не жиденьким, не прибедняйся, он был очень даже ничего, женщины загадочно шептались, слушая, как ты поешь. У тебя был успех, у меня – никакого.
– Моя фамилия – Воробьев, – сказал старик.
– Я узнал тебя, узнал. – Силантьев сделал короткий шаг навстречу старику. Он понял, насколько безнадежно постарел и сносился он сам – никто из тех, кто окружал его в пору молодости не узнает – и не время, а точнее, не только время сделало его таким – увидев Воробьева, он словно бы внезапно столкнулся с самим собою после четырнадцати лет разлуки. Впечатление было удручающим. Неужто он тоже такой?
Да, такой!
Он прижал к себе Ваську Воробьева, сдавил его, что было мочи, уронил голову ему на плечо и чуть не задохнулся – так безжалостно накатило прошлое, похлопал Воробьева по спине, тот похлопал по спине Силантьева, Силантьев похлопал его – всё в эти хлопки вместилось, не надо было никаких слов – тут и нежность была, и слезы, и горечь, и радость, – непонятно только, почему так тихо кругом, почему рты им не сводит судорогой, почему сердце ни у кого их них не рвется на куски? Воробьев мог не рассказывать о себе – и так все было понятно: его, как и Силантьева, вызывали в штаб флота по тому же самому делу.
– Кто-нибудь из твоих родичей жив? – спросил Силантьев.
– Возможно. От меня все отказались.
– И жена?
– И жена.
– А моя Вера… моя Вера… – Голос у Силантьева задрожал и Воробьев, старый нежный кореш и братан, все поняв, постучал ладонью по спине друга:
– Не надо, Славка! Но поверь мне в одном, уже опробованном на сотнях шкур таких людей, как ты и я: куда тяжелее бывает, когда хоронишь человека живого. Он жив, он ест, пьет, танцует, читает книги, плавает по морям, зарабатывает деньги, он дышит и исправно бегает в сортир, а его нет – он для тебя мертв, потому что предал… Таких людей тоже надо хоронить, а хоронить их тяжелее, чем тех, кто действительно перестал существовать. Физически, так сказать.
– Да, живых хоронить тяжелее, чем мертвых, – эхом откликнулся на это утверждение Силантьев: он соглашался с Воробьевым и в ту же пору никак не мог согласиться с ним, поскольку потеря одной только Веры для него куда крупнее, чем всех родственников, вместе взятых. – Я бы с тобой согласился, если бы сам похоронил Веру, если бы сам бросил землю на крышку гроба, как бы это ни было тяжело, – с затаенной болью, но голосом вполне спокойным, даже отгоревшим, произнес Силантьев, повторил: – Как бы это ни было тяжело. Но Веру похоронили чужие люди, я в это время сидел.
– Меня взяли через неделю после того, как взяли тебя. Дома, ночью, тепленького. Перевернули квартиру вверх дном, искали личное письмо японского микадо – естественно, не нашли, поскольку я его надежно спрятал. – Воробьев не удержался, сиплый голос его снова разлезся по шву, послышался треск, хлюпанье, на одно сипенье наложилось другое, мокрое, кашельное. – Так у меня на все эти годы осталась картина домашнего содома. Как закрою глаза – так она и встает передо мною, словно лист перед травою. – Ты знаешь, а я домой, на свою квартиру ездил, – сообщил он доверительно.
– Ну и что?
– Живут совершенно неведомые люди. Наверное, хорошие, я в этом нисколько не сомневаюсь, а гражданин Воробьев уже нигде не значится – о гражданине Воробьеве они и слыхом не слыхивали, не говоря уже о том, чтобы видеть. Вот так. Ты к себе домой не ходи, Славка.
– Почему?
– Не ходи, и всё! Прими совет старика.
– Ладно, принимаю.
– Из всех наших, кого забрали, в живых осталось только пятеро. Пять человек, ты знаешь об этом? – И уловив отрицательное движение Силантьева, Воробьев гулко ухнул палкой об пол, показывая, где находятся остальные: – Никого больше не нашли.
– Родственники отказались от нас, чтобы выжить. Ты винишь их в этом?
– Виню, – просипел Воробьев. – А ты?
– До нынешнего дня винил, сейчас нет. Им не дано было выжить, если бы они не отреклись от нас.
– Пустой разговор, Славка, – проскрипел старик, снова бухнул палкой об пол, – не защищай их! – Он подергал рукой в воздухе, удерживая равновесие – в Воробьеве действительно было что-то нарушено, слишком заметно сбито набок, и Силантьев спросил напрямую:
– Что это у тебя?
– Нарушение вестибулярного аппарата.
– Лечиться пробовал?
– Бесполезно. На тот свет с самыми разными хворями берут, никому не отказывают – хоть с грыжей, даже если она величиной с тыкву, хоть с дыркой в башке, из которой еще не вытекла кровь, хоть с рассыпавшейся печенью, и чего уж там говорить о каком-то вестибулярном аппарате.
Они стояли посреди коридора и, собственно, им не надо было даже говорить, им важно было ощущать друг друга, слышать – и пусть их разговоры ничего не значат, пусть это будет пустой трепотней, им важно было осознавать, что они еще живы, дышат, скрипят, плюют в воздух, и настанет время – плюнут в тех, кто закатал их в лагеря.
Силантьев поверил вдруг, что все может возвратиться – даже детство с его радостями, снами, запахами, играми и песнями, и как только он почувствует, что все это действительно вернулось, наметит точку отсчета – новую, нулевую и от нее, как с нулевого этажа, с фундамента начнет свою жизнь по второму кругу. И плевать, что износилось тело, здоровье ни к черту, что в нем самом нет ничего непомятого, неискалеченного, живого, целого – плевать на все это. Он не сделал никаких открытий ни в своей военной, ни в своей лагерной жизни, кроме одного: есть вещи посильнее смерти, побоев, напраслины и позора, но это открытие скорее относится к области глубокого копания, ковыряния в душе собственной и в душах чужих: теперь он сделает другое открытие. Надо только собрать все свои силы, напрячься, пораскинуть тем, что у него осталось, здоровьем и мозгами, и взяться за дело. Он должен оставить на земле память. О себе, о Вере, о своей фамилии. Не тем, что провел столько-то времени на Колыме, не военным своим прошлым, пусть даже отмеченным орденом, не той встречей, а чем-то таким, что он еще не определил – открытием ли, книгой ли, кораблем ли, новой формулой ли, либо еще чем – пусть последнее десятилетие его жизни будет озарено светом.
И не важно, что он находится под присмотром магаданской комендатуры – с нею он справится, у него теперь есть форма, которую он может носить, есть почетный боевой орден, который он прикрутит к своему кителю – он принадлежит теперь жизни, а не конвою, холоду и смерти, он отстоит теперь право числиться в этом мире. Услышал собственный зажатый стон – будто закусил его зубами, пытаясь удержать, но тот, верткий, выскользнул – Воробьев тоже услышал стон Силантьева, откинулся назад. Подглазья у него были мокрыми. Эх, милый друг – не по Мопассану, – действительно, милый, так кстати и так хорошо напомнивший Силантьеву прошлое. Теперь у Силантьева есть силы.
– Извини, – сказал Воробьев, и подбито помахав в воздухе одной рукой, словно птица, в которую на лету всадили заряд дроби, отер пальцами лицо. – Извини, Славка.
А Славка, седой, с хрюкающими легкими Славка поймал и себя самого и друга своего на том, что у них нет платков – пользуются, как школьники, пальцами – утирают ими носы, глаза, лица, сморкаются «ракетным» способом, заткнув палец в ноздрю: так шибают, что от ватников отрываются пуговицы. «Надо будет купить платок и подарить Воробьеву. Впрочем, есть старая примета: платки дарить нельзя. Это ссора, раздор, деление имущества. Это потеря. Но разве можно терять друга, которого только что нашел? Ведь друг вернулся из нетей, откуда мало кто возвращается. Значит, из нетей вернулось только пятеро… Пять человек. А сколько было взято? Воробьев наверняка знает цифру, если только она несекретная. Она никак не может быть секретной. Люди должны знать её! И фамилии должны знать».
– Я тоже плачу, – сказал Силантьев, – только слез у меня уже нет. Кончились, высохли, и сам я, Василь, отгорел. Жизнь начинаю по новой. Скоро буду учиться ходить.
– Правильно, Славка! – сказал Воробьев, просипел еще что-то одобрительное, может быть даже святое слово произнес, но его было не разобрать, потом гулко бухнул палкой о пол. – Значит, так, – больше я тебя никуда не отпускаю, ни на шаг, ни на полшага. Больше разлук не будет. Действуем, значит, следующим образом: идем обедать в самую лучшую владивостокскую ресторацию. – В этом разваливающемся, истыканном болячками, свищами, дырами и разной пакостью старике сохранился задор, и Силантьев теперь окончательно узнал его: это был Васька Воробьев – почти что прежний…
– У меня нет денег, чтобы пойти с тобой в ресторан, – сказал Силантьев.
– Ерунда, у меня есть.
– Ты же знаешь, я не люблю ходить на чужие… – М-да, это прозвучало слишком гордо. Ну будто бы действительно вернулось безмятежное прошлое, будто темный мрак выкололся цельным куском и выпал из прожитого. А ведь все повторяется, абсолютно все – даже смех наш и слезы наши.
– Ну ты даешь… – Воробьев поугрюмел, жесткие лохматые брови двумя защитными козырьками прикрыли глаза, рот немощно раскрылся, и из глотки вырвался хрип. В следующую минуту он справился с собою, подбито подергал свободной рукой. – А тебя что, тебя деньгами еще не снабдили?
– Где должны были снабдить?
– Здесь, на флоте.
– Нет.
– Выдадут, флот за грехи свои, за то, что было, сполна расплачивается, ничего не зажимает: чем-чем, а деньгами тебя снабдят. Здоровьем не снабдят, а рублями – почти что по потребности. Хотя потребности наши… – Воробьев не договорил, снова врезал палкой по полу. – Значит, мы с тобой договорились – идем кутить.
Кутить! Две развалины – и кутить? А если подует ветер и из них высосет всю пыль? К какому врачу тогда обращаться?
– Ладно, – согласился Силантьев, поняв, что если он сейчас откажется, то не только обидит Воробьева – он год жизни и того немного, что осталось в нем, вычленит.
– Раз ты такой щепетильный, я тебе дам в долг – потом вернешь, – сказал Воробьев. – Когда снимешь флотский банк.
– Дай мне двадцать минут, чтобы переодеться. Только переодеться, а то видишь, в чем я щеголяю. – Силантьев посмотрел на свои ботинки, на свои брюки, потом прихватил пальцами лоснящиеся обшлага рукавов и демонстративно оттянул их. – А?
– Двадцать минут – много. Десять!
– Десять – мало. Пятнадцать!
Сговорились на пятнадцати минутах. Воробьев цепко ухватив Силантьева ревматическими корявыми пальцами за пиджак, притянул к себе, дохнул растроганно, сипло, тепло, постоял немного, собираясь с силами и словно бы концентрируя все, что у него осталось, против какой-то беды, которой еще нет, но она приближается, идет валом, будто длинная морская волна, она уже чувствуется и если им не сплотиться, не стать рядом, волна свалит их с ног, искалечит, а уже хватит, чтобы их калечили – достаточно того, что было, намаялись и набедствовались они под завязку и если Бог отведет им еще немного жизни, ну хотя бы лет пять-семь, больше не надо, то очень хочется прожить этот небольшой отрезок без бед, без окриков, без унижения, без боли душевной, которая куда круче и опаснее боли физической.
– Ты не пропадай, Славка, ладно? – просяще просипел Воробьев. – Очень прошу тебя.
– Не пропаду.
– Я не в смысле момента, который сейчас… я вообще… Ладно? Ну пожалуйста.
Друг молодости силантьевской был одинок, растерян, не знал, к какому берегу приткнуться, он чувствовал себя так же, как чувствует сам Силантьев, и если они будут доживать свои годы в одиночестве, каждый сам по себе – долго не протянут. А когда вместе, когда рядом – еще покоптят небо, пожуют, помнут деснами котлеты из оттаявшей якутской мамонтятины и всласть поскрипят костями на владивостокских бульварах.
Форма была словно бы специально подогнана на Силантьева – нигде ничего не жало, не морщинило, не кособочило, длина была соблюдена в меру, китель сидел влито, обшлага рукавов не налезали на сгибы пальцев – все в самый раз. Правда, брюки были чуть широковаты в поясе, но разве это беда? Это ведь сделано специально, на вырост, в расчете на то, что человек изголодавшийся и окостлявевший на баланде, корнях и ягодах, до костей изгрызенный комарами, на нормальной еде наберет форму, станет тем, кем был когда-то.
Хотя стать теми, кем они были когда-то, им уже не дано, и эта мысль опечалила Силантьева, он помял пальцами височные выемки, изгоняя оттуда звон, почувствовал, как в правом виске трепетно и живо бьется жилка, а в левом виске почему-то молчит, словно бы уже умерла. Эта мелочь – а может и не мелочь – расстроила Силантьева, но ненадолго, он заставил себя забыть о неполадках в организме – их ведь столько, что не справится целая бригада медиков.
Он вдел в брюки ремень, загнал складки назад, под китель, натянул на ноги скрипучие, пахнущие складом ботинки, привинтил к кителю орден, подраил его рукавом своего старого пиджака – все равно этот хлам пойдет на выброс, – нарядился, в общем, по всей форме, глянул на себя в зеркало и увидел незнакомого седого командира. Командир понравился Силантьеву. Он подвигался перед зеркалом, и каперанг, глядящий на него с блестящего экрана, четко повторил все его движения – ни в одном не ошибся. Даже лицо, раздавленное, оплющенное былым, людьми, которые хотели превратить Силантьева в ничто, меченное годами, будто когтями, на этот раз понравилось Силантьеву: как оказывается, военная форма меняет человека и почти всегда молодит. Хотя, к несчастью, люди часто подчиняются и козыряют форме, а не человеку, на котором она сидит. А суть военного бытия требует, увы, мозгов, того, чтобы шарики у командира крутились со скоростью самолетного винта. Вспомнилось, как в лагере конвойный начальник высмеял кого-то из пехоты – и не побоялся, гад – силу свою знал, безнравственную силу, которую ему, кстати сказать, дала военная форма: «Возьми кучу дерьма, надень на нее папаху – будет полковник. Все капитаны и майоры козырять станут, подполковник тоже не пройдет мимо, сними папаху – опять куча дерьма».
Пора, наверное, и к Воробьеву… Силантьев в последний раз оглядел себя, подумал, что на улице ведь придется отвечать на приветствия, самому козырять, если попадется адмирал, хотя адмиралы вряд ли ходят пешком по Владивостоку, у всякого адмирала ныне есть колеса, – вскинул руку к виску, движение получилось четким, хотя и не слишком лихим, скорее – усталым, старческим, но оно вполне устраивало Силантьева – значит, не разучился еще. В следующий миг он морщась сжал губы и покачал головой:
– Кто же руку к пустой голове прикладывает, гражданин каперанг?
Надел на голову фуражку с золотым крабом, еще раз козырнул – во второй раз получилось лучше. Бросил прощальный взгляд на каперанга, разом охватывая всю фигуру, благо это позволяло зеркало, и вдруг такая тоска накатила на него стремительным валом, что Силантьев чуть не задохнулся – он жалел того далекого, удачливого Славку Силантьева, у которого была прямая дорога в адмиралы – и талант был, и знания, и опыт, и молодость, – и было всё убито какими-то шкодливыми пакостниками, завистниками, видевшими, вероятно, в Силантьеве соперника, жалел Веру, годы, ушедшие в никуда, жалел самого себя, нынешнего, ни на что уже не годного человека.
Не надо обольщаться. И он, и Васька Воробьев, и те трое, что вместе с ними вернулись из нитей, ни на что уже не способны. Все – мусор, шлак, отработанное топливо.
Силантьев ощутил, как у него потеплели глаза, твердый, показавшийся ему волевым, рот на самом деле совсем не был волевым – размяк, задрожал, пополз в сторону, он ощутил боль в легких, боль в кишках, боль в печени, боль в ключицах – почти всюду была боль, боль, боль, ни одного живого непораженного места в его теле не существовало, держалось только сердце, оно работало слаженно, ритмично, словно хорошо смазанная машина, билось победно: в конце концов правда взяло свое, он, Славка Силантьев, из зэка, не имеющего ни имени, ни фамилии, вновь превратился в Вячеслава Силантьева, стал человеком. Хотя, если честно, если копнуть глубже, – он пока не верил, что всё вернулось, что на нем морская форма – на плечах погоны, на груди орден, – что все позади. Может, это розыгрыш, и естество его, чуя розыгрыш, предупреждает: не обольщайся!
Нет-нет, напрасны страхи. Просто он еще не привык к самому себе в новом качестве, не понял до конца происходящее и продолжает пребывать там, в убогой магаданской комнатенке с нищенской мебелью, либо плывет в весенних сугробах, шарится в снегу, ищет самого себя и никак не может найти. Боль возникла в затылке, возникла в шее, сдавила – вместо того чтобы утихнуть, она усилилась, пошла вверх. Потом нырнула вниз, подсекла жилы в ногах и Силантьев охнул – единственный островок, который оставался нетронутым в этом огне, было сердце. Силантьев горел, он превратился в костер, губы у него нехорошо посинели, взгляд сделался измученным – выходило, что он не выдержал свидания с самим собой, с Силантьевым из тридцать восьмого года…
Впрочем, погон тогда не носили, носили только шевроны на рукавах, форму шили из другой материи, крабы были другими, но какое, собственно, значение имеет все это сейчас?
В следующий шаг Силантьев ощутил, что сердце его не выдерживает – что-то легко, остренько толкнуло в самую середку, сердце замерло на миг, остановилось, лицо Силантьева исказилось – он отчетливо увидел себя в зеркале, – хотел застонать, но не смог. Воздуха не стало – Силантьев разжал зубы, засипел трудно – совсем, как Воробьев, с такой же болью втянул в себя воздух, сглотнул все, что смог втянуть, давая пищу легким, но легкие ничего не приняли – воздуха действительно не было.
– Вера, – потрясенно прошептал Силантьев, но шепота своего тоже не услышал. Что-то с ним происходило, а вот что именно, он не мог понять, барахтался в боли, стремился выплыть из огня на один-единственный нетронутый спасительный островок. Но пламя подмыло и этот островок. Ему показалось, что рамки зеркала раздвинулись, очистились – гостиничные зеркала всегда бывают мутными и рядом с блестящим морским командиром, смотрящим на него из стекла, увидел легкую и очень ладную, очень красивую женщину, вмиг узнал её – это она послушно явилась на лишенный звука его зов, это она смотрела на мужа с легкой тоскующей улыбкой, и узнав Веру, Силантьев мигом вспомнил её дыхание, тепло её кожи, невесомо-нежные движения пальцев, когда она гладила его по щекам, долгое прощание перед последним плаванием Силантьева – уже тогда она что-то чувствовала, да и не почувствовать это было нельзя; хотя все мы и ходим под Богом, ценность жизни определяли люди, совсем не наделенные качествами богов. Силантьев жалко улыбнулся дорогому женскому изображению, возникшему на зеркальной глади, словно бы сомневаясь в том, что это была Вера, позвал опять: – Вера, где ты?
И вновь не услышал своего шепота. Пламя сузило пространство вокруг пораженного островка до самого малого предела, сжало его со всех сторон, готовясь к последнему прыжку. Силантьев понял, что не удержится – просто не дано, он не устоял перед самим собой и не вынес встречи с прежним Силантьевым, увидел, что женщина, замершая рядом с командиром в зеркале, сдвинулась с места, её наполовину обрезал край рамки, и Силантьев, противясь этому, помотал рукой, словно бы отсекая ей дорогу: стой!
Нет, не собрать ему самого себя в целое, не справиться с болью и беспорядком в теле, что он ни сделает сейчас – все будет бесполезно.
– Вера! – вновь беззвучно позвал Силантьев, медленно пополз вниз, коснулся коленями пола, задержался на несколько мгновений в этом положении, но несколько мгновений жизни ничего не решили, – он уже не был прежним Силантьевым, он стремительно вкатился в старость, несколько мгновений, пока он молитвенно стоял на коленях, только замедлили шаг смерти, в следующую минуту Силантьев растянулся во весь рост перед зеркалом – сердце его, которое он считал здоровым, разорвалось. Последней мыслью была мысль о Вере. Единственное хорошее в этом конце – то, что свидание с женой близко, осталось совсем немного, какие-то пустяки – одолеет он эти пустяки и очутится рядом с ней. Теперь уже навсегда.