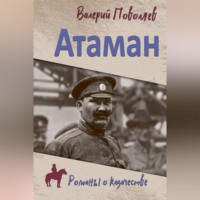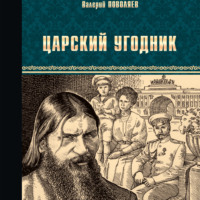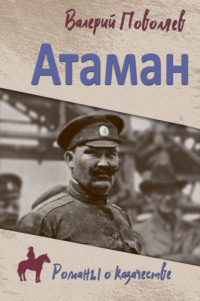Полная версия
Сын Пролётной Утки

Валерий Поволяев
Сын Пролётной Утки
© Поволяев В.Д., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *Валерий Дмитриевич Поволяев – известный российский писатель, автор более ста книг. Его произведения переведены на английский, французский, немецкий, арабский, датский и другие языки. По мотивам повестей «Тихая застава», «Место под солнцем», «Таежный моряк» сняты одноименные фильмы. Лауреат премии Ленинского комсомола, Всероссийской премии «Золотой венец Победы», литературной премии им. К. Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого, Н. Кузнецова, Г. Жукова и многих других. Награжден орденами Дружбы, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, орденом Почета.

Сибиряки в «Сибириаде»
Красивое слово было рождено в издательстве «Вече» – «Сибириада». Вслед за запоминающимся словом этим родилась популярная книжная серия, в которой было напечатано много чего интересного: романы, повести, рассказы, литературные исследования человека, обладающего сибирским характером.
Причем мне кажется, что сибиряк, как личность, остается сибиряком всегда, везде, где бы он ни находился, где бы, в какой географической точке ни происходили описываемые события, «привязка по глобусу» не имеет никакого значения. Ведь сибиряк – он и в Краснодарском крае сибиряк, и в Белоруссии с Украиной, и в Турции на отдыхе, и в Сирии, где не так давно был даден крепкий бой террористам, и где-нибудь в Арктике, на обледенелом пограничном островке. Сибиряк интересен везде, всюду, где бы он ни пребывал, везде и всегда.
Автор этой книги Валерий Поволяев довольно подробно исследует характер, о котором идет речь, сам написал для «Сибириады» немало. И вот – его новая книга.
Она состоит из вещей необъемных вроде бы, но в работе трудных – из рассказов. Рассказы всегда считались жанром капризным, непростым в обточке, иногда требующим много времени. Чтобы получилось то, что надо, требовалось набить на пальцах мозоли. Сибиряки в книге – и прямые герои повествования (в большинстве рассказов) и герои косвенные, в действии участия вроде бы не принимающие, но способные создавать психологическую обстановку, нужную автору. Чем автор, собственно, и пользуется.
Не все герои книги, – а их много, – помечены знаком плюс, есть и такие, что несут в себе отрицательный заряд. Причем как человек, свою жизнь связавший с правоохранительной системой страны, знающий не только светлые стороны нашей действительности, но и стороны теневые, хочу отметить, что автор поступает правильно, показывая героев самых разных, во всей их многоплановости… Недаром в книге есть раздел «Новые русские» (назвать раздел «Новые сибиряки» рука у автора не поднялась).
Теперь об авторе, о прозаике Валерии Поволяеве. По происхождению он – сибиряк, точнее – родился на Дальнем Востоке, раньше считавшемся Восточной Сибирью, жил в Свободном – городке на Зее, в Сковородино – узловой станции на железной дороге, ведущей в Хабаровск, в Красноярском крае – на станции Сорокино, потом в Минусинске. Затем перебрался на запад, в нынешнюю Липецкую область, через некоторое время – в Москву. Но везде оставался и продолжает оставаться сибиряком.
Я, как и автор этой книги, – тоже сибиряк. Родился на Байкале, учился и работал в Свердловске, через несколько лет был переведен на работу в Москву, где ныне живу и тружусь. Но в Сибири бываю часто, у меня много учеников и в Улан-Удэ и в Екатеринбурге, поэтому я едва ли не четвертую часть своего времени провожу там… В общем, героев, населяющих эту книгу, я знаю хорошо, вижу их часто – и одних, и других, и третьих.
Словом, «Сибириада» – это мое, как и для многих других читателей, очень близкое, родное, если хотите, и будет родным, близким всегда. Как и всякий сибиряк, он тоже всегда будет земляком моим, желанным в общении человеком, где бы я его ни встретил…
Юрий СКУРАТОВ,доктор юридических наук, профессор,действительный государственный советник юстицииНа фоне синих сопок
Срочный вызов во Владивосток
Силантьев считал, что у него крепкое сердце – столько оно вынесло, столько выдюжило – рвалось-надрывалось, насаживалось на штык, его пытались достать у Силантьева из груди и швырнуть в угли, чтобы запечь, но ничего: сердце все выдержало, работало без перебоев в разную пору – и когда они оставались без еды в занесенном снегом устье безымянной речки и до того докуковались, что уже варили в котелках сосновую мездру, ею, да еще бульоном из коры и питались, и когда ему объявили о втором сроке – ни за что ни про что, и когда он узнал, что оставшаяся на воле жена умерла в полном одиночестве: друзья отвернулись от бывшего капитана первого ранга Вячеслава Силантьева, ставшего врагом народа, родственники – худший вид друзей – тоже поспешили отречься, деньги кончились, хвори и одиночество допекли жену окончательно, и красивая, заставляющая восхищенно обмирать весь флотский Владивосток Вера Сергеевна Силантьева рано ушла из жизни. Силантьеву тоже надо было уйти, но он не мог наложить на себя руки и ночами молил свое сердце, чтобы оно заглохло, остановилось, чтобы горючка кончилась и все питательные проводы оказались перекрытыми, заткнутыми затычками, чопами, пробками, мусором, в конце концов, который способен забить все на свете, но сердце не вняло мольбе хозяина, ослабший организм сопротивлялся и все, что выпало на долю Силантьева, одолел.
Когда было трудно, Силантьев хватал ртом жидкий северный воздух, обжигал им губы так, что они облезали до мяса, сочились красной сукровицей, до одурения глотал комаров и мошку – наелся насекомых на всю оставшуюся жизнь, держался за грудь, за живот свой, боясь, что потеряет какую-нибудь внутреннюю «деталь» – и верно, потери были. Дырка в желудке, проеденная язвой – надо полагать, не одна, рвань и глисты в кишках, протертая до крови двенадцатиперстная, сиплые легкие, хотя легкими он славился на флоте, когда проходили медицинскую комиссию, с такой силой рвал прибор, что вот-вот чуть не опрокидывался, а лица врачей делались изумленными и нехорошо бледнели – этот молодой кап – один мог испортить дорогостоящую аппаратуру, – обмороженные уши, обмороженные пальцы, оттяпанный топором мизинец на правой ноге… Все минусы, минусы, минусы – минусов столько, что всех не сочтешь.
А плюсы? Плюсов только один: отсидевшего с тридцать девятого по пятьдесят четвертый год Вячеслава Игнатьевича Силантьева выпустили на волю, пожали руку и извинились: ни за что, мол, ты, капитан первого ранга, сидел. Но дальше Магадана отлучаться не велели, помогли даже снять каморку в промерзлом, берзинской еще постройки дощанике – какому-то энкаведешному, а точнее, уже эмведешному (министерство внутренних дел образовалось только что) начальнику понадобилось, чтобы все военные люди, имеющие отношение к флоту, находились у него под рукой, никуда не отлучались. Какому именно шефу это понадобилось, Силантьев не знал, а интересоваться его отучили – только и делали пятнадцать без малого лет, что отучали от разных дурных привычек, от любопытства и от желания общаться с другими, от необходимости пользоваться носовым платком, зубным порошком, ногтечисткой, салфетками – слишком много оказалось у Силантьева и ему подобных дурных привычек.
Поселившись в Магадане в каморке, Силантьев долго не мог поверить, что все осталось позади, что он волен открыть дверь, спуститься по гулкой деревянной лестнице вниз, в хорошо протопленный предбанник подъезда, открыть дверь, специально утепленную, обитую старыми одеялами, чтобы хвосты снега не заносило в помещение, и очутиться на улице, – а на улице он волен пойти направо, волен пойти налево, никто не будет дышать ему в спину, щекотать лопатки штыком либо стволом автомата и требовать, чтобы заключенный держал шаг и строго соблюдал направление. «Азимут, яп-понский бог! Р-раз-два! Р-раз-два!»
И нельзя сделать шаг в сторону. Шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, которая будет обрезана короткой автоматной очередью. Длинной тут и не надо, вот так!
Когда холодно и от мороза позванивают кости, звенит замерзшая слюна во рту, звенит одежда – шаг бывает уторопленный. Не дай бог при таком шаге-беге упасть в снег. Это все, конец – прямая дорога к верхним людям. Уж лучше в таком случае шаг влево, либо шаг вправо – все меньше мучиться придется.
Долго не верил Силантьев, что прошлое кончилось, – вечерами, находясь у себя в каморке, замирал, ловя звуки, больше всего боясь, что раздадутся сдвоенные или строенные шаги. Это значит, что идут… вполне возможно, за ним. В нем обмирало, становясь чужим, ненужным все, чем он был начинен, от макушки до пяток. Каждая дырка начинала сочиться кровью – возникала глухая боль, которую ничем нельзя было перешибить, если только другой болью. Но другой боли взяться было неоткуда – у него и так болело все. Куда ни ткни пальцем, на что ни укажи – болит!
Иногда он стоял у окошка, почти прижавшись к замерзшему стеклу и в чистый, специально прожженный монетой кругляшок смотрел на улицу, ловил слабые тени и в мерцании снега отсвет редких фонарей. Света в комнате не зажигал – боялся, что его с улицы засекут и припечатают бог знает какую статью – почище пятьдесят восьмой, хотя чище уже нет: всех, кто проходил по ней, звали фашистами. Это только в книгах, которые были потом написаны, осужденных по пятьдесят восьмой статье беззубо звали политиками, а на деле – фашистами; уголовников, естественно, звали патриотами. Вот «патриот» иногда и скалил зубы на «непатриота», шипел выразительно, с натугой, словно протаскивал сквозь сжим челюстей собственные легкие:
– Фашисты, мать ваш-шу! Придет время – прирежем каждого второго! – И действительно, «патриотам» ничего не стоило перерезать «непатриотов», самое легкое на свете дело – ширнуть хорошо заточенным напильником «фашиста» в бок. За это на фронте даже медали дают. «Странное дело, почему же здесь не дают медалей? – удивлялись «патриоты», когда утром из барака вытаскивали пару скорченных, подтянувших под самый подбородок коленки, уже остывших «фашистов». – Там дают, а тут не дают? Жмется Ус – медалей, видать, мало напечатал».
Если «патриоты» и не произносили такое вслух, то думать думали. Усом те, кто проходил по УСВИТЛу – Управлению Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей, звали Сталина, величали все без исключения, – и статья пятьдесят восьмая, и статья всякая другая, звали вслух, звали про себя, в мыслях, шепотом, в вое и в песне – и отношение к нему у «патриотов» и «непатриотов» было одинаковое.
Но одинаковость взглядов никак не могла примирить «патриотов» с «непатриотами»: «патриоты» делали свое дело и удивлялись, почему же им не дают медалей. Если «патриоты» могли объединиться по одному окрику, поднимались лютой стенкой и были опасны, то «непатриоты», которым сам бог велел объединиться, жили каждый по одиночке, шарахались друг от друга, доносили, если давали бумагу, и слово «Ус» человеку, произнесшему его вслух, не прощалось – такой человек исчезал навсегда.
И не имени у исчезнувшего не было, ни фамилии – все это стиралось бесследно, будто и не жил иной бедолага, только в мелкой, плохо вырытой могиле допревало что-то сваленное в кучку; то, что здесь покоится чья-то душа, подтверждал столбик, на топорном стесе которого черным кузбасс-лаком было начертано «3К №…».
Многое передумал, перевспоминал Силантьев, стоя у затененного закуржавевшего оконца, поверху заросшего снеговой махрой, а понизу гладким льдом, в который на манер фитиля была впаяна тряпочка, протянута через весь подоконник и мокрым хвостом немо смотревшая вниз. Под фитилем стояла консервная банка, в ней собиралась капель, закуржавевшее окно часто таяло, обрастало снегом и снова таяло, процесс был нескончаем, и Силантьев постоянно выливал воду из банки на улицу, «укреплял сугробы».
Надо было устраиваться на работу. Без денег, без картошки, без хлеба и угля в Магадане долго не проживешь. Но кем он может работать в этом городке, главный памятник в котором – ржавый пароход, высовывающий во время отливов сопревшие свои останки из бухты Ногаева? Писарем, курьером, делопроизводителем, сторожем разбитого парохода, бухгалтером? Нет, бухгалтером Силантьев быть не может, не получится, это не по его части, а вот счетоводом – вполне возможно.
Пароход, легший на дно Ногаевской бухты, пришел сюда после войны, в сорок шестом году с грузом динамита, на якорь встал в сторонке – все-таки не мыло с перловой крупой привез. Ночью вода в бухте поднялась гигантской соплей к облакам, взрыв проделал в небе огромную дыру, втянувшую в себя пламя и динамитную копоть. В доброй половине магаданских бараков лопнули стекла, часть вообще осталась без рам и без дверей, – тугая воздушная волна поднимала в воздух бревна, крыши, людей, ящики с мусором и с дерьмом, уличные сортиры, шалманы, в которых торговали чем могли, иногда даже пивом и вяленой корюшкой. Суда, ночующие в бухте, высадило на берег, а якорь, на котором стоял пароход с динамитом, неведомая сила выдернула из воды и запулила на гору, километра за полтора от места взрыва. Пароход раскидало по частям. Из воды и ныне торчит ржавая, ни на что не похожая железяка. В отливы видна еще одна.
В общем, кто-то отгрохал себе достойный памятник. Говорят, была диверсия. Но была не была – поди проверь! Может, действительно похлопотать Силантьеву, чтобы ему дали место сторожа подле ржавых пароходных ребер?
Интересно, кто командовал пароходом – военный человек или гражданский? Впрочем, какое это имеет значение для Силантьева, которому неба бы серенького клочок, да земли чуток под бочок, дикого луку для закуски, еще, может быть, хлебную корку и стеклянную колбочку с малой выпивкой – ну хотя бы граммов сто – сто пятьдесят, не больше, еще чтоб матрас чистый был, нелагерный – в лагерях все матрасы одного цвета, черного, набиты не соломой, поскольку где ж солому-то на Колыме взять, – набиты ветками стланика, с которого хвоя давно уже осыпалась, она вообще осыпается очень быстро, остаются только ветки, бока наминают до волдырей, – и чтоб подушка была тоже нелагерная, и чтоб денег хоть немного имелось, не то очень неохота пухнуть от голода.
А на работу его упрямо не брали – и кто конкретно наложил этот запрет, бывший капитан первого ранга не знал.
В одной конторе потребовался истопник – работа несложная – шуруй кочергой в печке, подкидывай уголек, завезенный с Большой земли пароходом, чаёк регулярно кипяти, вот и все – главное, работа эта теплая, подле печек, которых в конторе было четыре. Силантьева взяли, пообещали отметить в комендатуре и быстро все провернуть, но из затеи ничего не вышло – перед Силантьевым вежливо извинились.
– На нет и суда нет, – произнес Силантьев слишком уж вольнодумно и захлопнул рот рукой, пальцами его снизу подпер: не то он говорит, ой не то…
Пошел в другое место, где была свободна вакансия курьера – это тоже устраивало капитана первого ранга. Всю жизнь мечтал о том, чтобы мотаться туда-сюда с бумажками по городу, от бараков Ногаевской бухты до сторожевых постов Гертнера. Главное, шанцевый инструмент скорохода обещали выдать, обувь – на лето крепкие фэзэушные ботинки с блесткими кнопочками, чтобы не отрывались берцы, на зиму – валенки, подшитые автомобильной резиной, но Силантьеву и там отворот поворот нарисовали: гуляйте, мол, гражданин, дышите воздухом, любуйтесь дивными магаданскими пейзажами.
Силантьев выбрался из конторы наружу и, стиснув коричневые цинготные зубы, втянул в себя воздух, задохнулся – не выдержала грудь, не выдержали зубы, в животе вспух большой стылый пузырь, пополз вверх, под сердце, обжег льдом, и Силантьев в своей худой, изгрызенной мышами и молью военно-морской шинельке скорчился, подхватил живот руками. Постоял немного, ожидая, когда его отпустит.
Отпустило. Силантьев сделал один нетвердый шаг, качнулся, завалился в снег, помог себе одной рукой, зацепился ею за воздух, выбил из груди застойный сгусток, удержался на ногах, сделал второй шаг. Он понял, что его обложили, – до этого посещения сомневался, либо полагал, что есть такие щели, которые не видны с крыши комендатуры, а сейчас осознал, что таких щелей нет – все норки, все щелки, все места, где может двигаться воздух, контролируются.
– А вдруг не все контролируются? – спросил Силантьев с надеждой, глянул в небо, подпертое снизу сугробами, недоброе, серо-гороховое, с изнаночной стороны явно подбитое железом, чтобы никто случайно не пробил пулей, дробью, не проткнул штыком, но какой ответ мог найти Силантьев в небе? Если только что-нибудь унижающее его достоинство, недоброе? Потухшее небо, чужое, ничего хорошего в нем нет.
Никому не нужен на свете Силантьев – ни здесь, в магаданских сугробах, ни дома, на родине, где от него отреклись, чтобы выжить, ни на Колыме, откуда он, как рыбка, скатился в Магадан – будто по реке сплавился, без препятствий и задержек, и Бог ему подсобил – о пороги не разбился. Он отправился домой, слушая по дороге, как уныло подвывает ветер, норовит выдавить глаза, забить ноздри какой-нибудь пакостью, сунуть в рот сорванный с недалекой крыши твердый снеговой обабок, лезет под шинель, шарит по спине, по лопаткам, вытягивает из тела последнее тепло.
Только бы до дома дойти, только бы дотелепаться, перевести дух, сварить кожистого, со шкурой, до гладкого блеска отмытого картофеля. В груди у него возникло ржавое дребезжание, перекатилось в глотку и застряло там. Силантьев не сразу понял, что это смех, шевельнул сморщенными обшелушенными губами:
– А еще в скороходы хотел наняться? Каперанг-каперанг!.. – Добавил примиряюще: – Бывший, впрочем, каперанг, а бывшим многое дозволено, не то что настоящим.
Дома он зажег плошку. Электричества не было. Проверил лампочку, укрытую сверху газетным абажуром – не лопнул ли волосок? Волосок был цел, не порван – значит опять надо переходить на жидкое электричество.
В инвалидном, с выколотым краем блюдце у него была налита судовая отработка – масло, которое идет на слив, черное, с машинной копотью, будто бы замешанное на порохе, – на трех усиках стояла проволочная скрутка с просунутым в нее фитильком. Свет от фитилька, конечно, скудный, на одного человека, книг при нем, конечно, читать не будешь, но все-таки это свет. Растопил плитку – хорошо еще, что уголь есть, целый мешок, – поставил на плитку чугунок с картошкой.
Все равно как бы там ни было – поиски работы надо продолжить. В одном месте слупили по лбу, во втором под глаз навесили фонарь, в третьем тоже навесят, в четвертом перебьют ногу, в пятом помнут ребра, в шестом прокусят ухо, но работу он все-таки найдет. В десятом месте, в двенадцатом, в восемнадцатом!
Хорошо все-таки быть дома. С одного бока потрескивает, гудит радостно плитка, подкормленная несколькими кусками уголька, с другого подсвечивает плошка – тоже живой огонь! Усталость, наполнившая его тело так, что гляди вот-вот выплеснется из горла, малость осела, успокоилась, мути стало меньше, тело потеплело, в груди родился кашель. Силантьев невольно улыбнулся:
– Раз кашель – значит, есть еще жизнь, жив буду. Трупу кашлять не положено.
Уютно в каморке. Хочется думать о хорошем, о Вере. Она – единственная из всех, кто не изменил Силантьеву. Вера могла отвернуться от мужа – врага народа, чтобы сохранить себя, и Силантьев это бы понял и никогда бы не осудил Веру Николаевну, но она не отвернулась от него, погибла – одинокая, без друзей, без помощи, словно бы заключенная в безвоздушном пространстве; на нее, еще живую, натянули белый погребальный саван.
– Вера, прости! – Силантьев поймал себя на том, что когда он отогревается, становится сентиментальным – что-то отходит в нем, оттаивает, из ничего прорезается прошлое – то, что он раньше не помнил и не мог вспомнить, потому что, вспомнив, сразу бы расклеился, ослабел и сдох бы где-нибудь под ржавым лишаистым камнем, уткнув лицо в мох-волосец, сейчас проступало, рождаясь из мутной нематериальной пелены, из которой вроде бы ничего и не должно было рождаться, он даже боялся ее тревожить, – но вот, вышел из-за колючей проволоки, и мерзлота, казавшаяся вечной, поплыла.
Щепочкой, заостренной долотцом, он потыкал картошку – не поспела ли? – картошка была еще твердая, и Силантьев, сглотнув слюну, ощерил истертые цинготные зубы, глоткой – именно глоткой втянул в себя картофельный пар. В лагере, а потом на прииске он не раз слышал, что первое средство от простуды – жгучий картофельный пар. Если болен, то надо дышать этим паром, пока можно терпеть: пусть даже горло облезет, рот сварится, но если ты, зэк, не хочешь сдохнуть, терпи, зэк, дыши.
Тут вроде бы что-то медленно проползло перед глазами Силантьева, этакая прозрачная тень, мошка, выскочившая из глаза, и Силантьев сразу насторожился: кто это, что это? Похоже, сила какая-то нездешняя, недобрая, а может, и добрая, но чужая. Силантьев удивился – откуда в Магадане взяться нечистой силе, и еще более удивился, когда увидел, что это, оказывается, не нечистая сила, а маленький, сморщенный от старости и сурового образа жизни паучок, сползший с потолка на прозрачной слабенькой нитке.
Похоже, у паучка тоже что-то неладно было с легкими – хлебнул холода, застудил внутренности, раз и он решил подышать картофельным паром. А может, паучок несколько дней ничего не ел и решил разделить с Силантьевым скромный ужин?
– Разве ты, брат, способен картошку есть? – спросил Силантьев у качающегося на нитке сморчка. – Нет, тут что-то не то. Пауки, парень, никогда не были вегетарианцами. Им не овощи, им мясо подавай! И ты, брат, не вегетарианец. – Он поддел пальцем паучка, и тот проворно полез по нитке вверх. – Не обманывай, дурашка, людей!
Ни в лагерях, ни на прииске, ни в Магадане Силантьев пауков еще не видел. Возможно, этот господин был пришлый, какой-нибудь знатный путешественник, приплывший на край земли с пароходом из краев жарких, далеких… Силантьев проводил паучка взглядом – тот карабкался на потолок лихо, практику, видать, имел большую.
На следующий день Силантьев попытался наняться рабочим сцены в драматический театр. Заявление у него взяли – сделал это товарищ в полувоенном коверкотовом костюме с отложным воротничком, с глазами, в которых Силантьев не сумел прочитать ничего хорошего, – попросил прийти через денек. Обычное, набившее оскомину, противное «придите через день», или через денек, – важны не слова, важна суть, разницы никакой, этого «зайдите через день» в Магадане так же много, как и снега. Зашел Силантьев через денек, товарищ в коверкотовом френче взял двумя пальцами со стола какую-то бумажку – ну словно навозную муху за крылышки – и протянул Силантьеву. Было сокрыто в этом движении двух розовых безволосых пальцев, в молчании полувоенного коверкотового костюма что-то брезгливое и одновременно недоброе. Силантьев молча взял бумажку, в которой уже распознал свое заявление, не глядя сунул в карман и ушел.
Всю жизнь мы только и делаем, что крушим горы, долбим камень, сбрасываем его вниз, бьем и бьем, а потом вдруг сами оказываемся под каменным ломьем, барахтаемся чуть дыша, если повезет – то и выбарахтываемся и снова начинаем крушить ненавистную плоть. А впрочем, почему ненавистную? Кому как! Есть ли от этой работы польза?
Придя домой, Силантьев сварил три картофелины сразу – запас, который мог растаять в считанные дни, он решил беречь, растягивать, сколько можно, три картофелины – норма для сытого обеда целой семьи по тем условиям, – поел и, поразмыслив, решил поискать в Магадане знакомых, чтобы было на кого опереться, если же их не окажется – заводить новых знакомых. В одиночку он, как пить дать, загнется.
Утром пошел в геологическое управление. Все с тем же делом. Бумажку написал дома, заранее. Работу просил любую – не до жира уже – хоть посудомойкой в столовой. Работы не дали. Не получил он работу и в пароходной конторе – там бывших этапников на службу не брали: грузы, документы, богатства страны в трюмах плавающих судов, на материк золотишко, обратно картошка и сахар, тушенка, крупа, – не-ет, здесь народ нужен проверенный, некривоглазый, руки чтоб нелипкими были, а для таких дел бывшие не подходят, нужны настоящие. Не получилось и на участке, который ставил столбы под электричество вдоль Колымской трассы…
Ослабев, Силантьев хотел дать чуть волю чувствам, рухнуть в постель, но вместо этого сгреб себя в кулак, сжался – впрочем, ненадолго, скоро опять ослабел – надо не в пропасть падать, а думать о том, как выжить, чем питаться, что на зуб класть. Может, попробовать писать заметки в местную газету – к краеведению он имеет вкус, кое-что знает и помнит, а что не помнит – выдумает. Например, как вы считаете, граждане читатели, почему пасмурная Ногаевская бухта называется Ногаевской? Считаете, что по имени какого-то малоизвестного полярного морехода? Любителя шкурить моржей и трескать сушеную картошку с лахтачьим салом? Ничего подобного. Название составлено из двух простых слов «нога» и «Ева» – дальше все обычно, никаких секретов, дорогие граждане читатели, шлите нам письма по адресу…