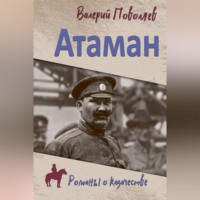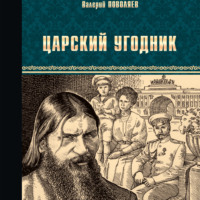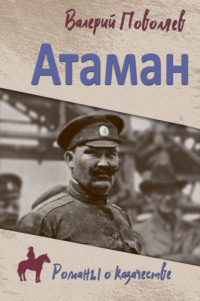Полная версия
Сын Пролётной Утки
Брови, как два послушных меховых возца, запряженных невидимыми крохотными лошадками, замерли на месте – возчик приказал им остановиться…
Следующий звонок также ничего не дал. И третий звонок не дал. И четвертый с пятым. Те, кто имел деньги небольшие – копейки по нынешним понятиям, – не спешили расставаться с ними, точнее – просто боялись: вдруг завтра возникнет какая-нибудь кризисная ситуация и им не на что будет купить хлеб? Гордеев этих людей понимал…
Кроме тощей пачечки из пяти сотенных бумажек, которые предложил Жихарев, Гордеев ничего не добыл.
– Вот мать честная! – Раздосадованный Жихарев хрястнул кулаком о колено, брови-возки ожесточенно заездили у него по лицу, ныряя то в один угол обширной, покрытой крупными порами территории, то в другой. – Вот мать честная! – голос у Жихарева дрогнул, задребезжал влажно, затем из глотки вымахнуло зажатое шипение, словно бы внутри у этого большого сильного человека что-то прокололи, выпустили воздух, и он невольно затих.
Домой Гордеев вернулся ни с чем.
В окна квартиры лился мягкий розовый свет вечернего солнца, припозднившегося с ночлегом, пели птицы – каждая изливала душу, каждая вытворяла такое, что мигом пропадали все слова, делались пустыми, как шелуха – перед этим сладостным пением они ничего не значили. Гордеев услышал собственный взрыд, застрявший где-то внутри, взрыд встряхнул его тело.
За себя Гордеев не боялся – его песенка спета, – а вот за Почемучку боялся очень сильно.
Для начала Почемучку надо было покормить. Гордеев выскреб из сковородки остатки грибов, черных как уголь, даже чернее угля, швырнул в мусорное ведро, застеленное цветным полиэтиленовым пакетом, поставил на газ чайник, из холодильника достал банку с молоком.
Это молоко было Почемучкино, сам Гордеев к нему не прикасался – что же в таком разе останется сыну? Купить два литра молока вместо одного Гордеев не мог – все по той же скорбной причине… по которой он лишается этой вот квартиры.
Внутри у Гордеева вновь что-то шевельнулось, встряхнуло его тело. Гордеев погасил взрыд. Даже если с ним что-то случится, с Почемучкой все будет в порядке. У властей ныне появилось много помощников, особенно по части незадачливого детства, – наверное, не менее, чем беспризорников в нынешней России, государство на эти цели выделяет деньги, поэтому Гордеев был за Почемучку спокоен.
Чайник, стоявший на плите, дернулся, призывно фыркнул и засвистел. Будто беззаботная птица.
Гордеев заварил Почемучке чай, кинул в стакан три полных ложки сахара – сын любил сладкое, ему надо было расти, потому дети в этом возрасте и едят много сладкого, отпилил три ломтя от старой зачерствевшей булки и сунул под крышку на сковороду. Следом плеснул немного кипятка из чайника.
Через полминуты по квартире растекся роскошный хлебный дух, от которого у Гордеева во рту в твердый комок сбилась слюна… Все-таки хлеб – это типичная русская пища. Как и картошка… Картошка с лучком, жаренная на постном масле, порезанная плоскими аппетитными скибками, м-м-м, Гордеев положил теплые мягкие куски булки, распаренные на воде, перед Почемучкой!
– Ешь!
После ужина движения у Почемучки сделались медленными, сонными – умаялся сынок, столько грибов набрал, только вот попробовать их из-за этих гадов не удалось. Гордеев поспешно подхватил Почемучку на руки, подивился легкости его тела и отнес в комнату на диван.
Накрыл старым, светящимся насквозь, но еще теплым шерстяным одеяльцем – через тридцать минут Почемучка бодро захлопает глазами и проснется и тогда перед вторым, уже длинным, сном его можно будет раздеть. Почемучка натянул одеяльце на ухо и сладко засопел.
Несколько минут Гордеев сидел молча, погрузившись в некое оцепенение, боясь пошевелиться. Пространство неровно колыхалось перед ним, мышцы тупо покалывало, ему чудилось, что в доме его поселилось нечто неведомое, чужое, враждебное, он ощущал этого незваного пришельца, но не видел его, поэтому и сидел неподвижно, будто в засаде высматривал. Мыщцы начали затекать. Но Гордеев продолжал сидеть без движения. Попутно вспоминал свое прошлое, хотя его совсем не хотелось вспоминать. Не хотелось, но, видать, так устроен человек, что прошлое само выбирается наружу, вспоминается, давит, и нет способов справиться с ним. А уж чтобы справиться с самим собою – об этом даже думать не моги.
Он продолжал сидеть неподвижно, погруженный в тяжелые свои мысли, искал в самом себе светлые полянки, на которых можно было бы расположиться, и не находил их, в результате все темнее, чернее становилось у него на душе, все хуже и слезливее делалось ему. Выхода не было.
Завтра снова придут богатые быки во главе с современным юристом Порхадзе, раскинут пальцы на руках в виде вил и будет Гордееву совсем худо – мир, и без того беспросветный, схожий с большим куском угля, сделается совсем черным.
Ему очень хотелось очутиться сейчас где-нибудь далеко от Сучана, очень далеко, и разом покончить со всей этой мататой, с бедой, с тревогой, мертво застрявшей в его душе… Главное – чтобы рядом с ним находился Почемучка. Только один Почемучка и больше никто.
Но грезы есть грезы, а явь есть явь, одно с другим хоть и рядом находится, а смыкается редко. На душе делалось все чернее. В одном Гордеев был уверен твердо: дети за грехи родителей не отвечают, и если он сейчас куда-нибудь зафитилится, исчезнет, то вместе с ним исчезнут и его долги, на Почемучку они никогда не перекинутся – согрешивший отец за долги ответит и на этом все – стоп! Таковы законы жизни.
Но ныне появились такие люди, которым законы все, писанные и неписанные, до «лампочки», как было принято говорить в гордеевском детстве, и вообще эта новая порода людей живет не по правилом, а по понятиям.
Почемучка продолжал спать. Безмятежно, беззвучно, с открытым ртом, в котором были видны молочные, еще не очень крепкие зубы, крепкие зубы у него будут потом, они придут вместе с новой жизнью.
В груди у Гордеева громко, очень встревоженно забилось сердце, оно словно бы сорвалось с места, нырнуло вначале в один угол, затем в другой, затихло, будто бы оборвалось совсем, потом возникло вновь, обозначилось в ключицах болью, шарахнулось в сторону, опять исчезло. Стука его не стало слышно совсем. Гордееву сделалось страшно.
Он понимал, что спасти его может только чудо, но чудеса уже давно перестали являться людям, сына своего он может спасти только сам, больше никто – своей смертью может дать Почемучке жизнь, гарантировать ему и дом и кров.
Наивным человеком был Гордеев. Несколькими невесомыми движениями он поправил на Почемучке сползшее одеяльце и на цыпочках прошел к двери – боялся разбудить сына. В горле у него что-то забулькало, задергалось и он поспешно притиснул к шее руку – ни одного неосторожного шороха, ни одного царапанья или бульканья не должно возникать. Ничто не должно потревовожить Почемучкин сон.
Хотя вечернее пространство Сучана и было заполнено звуками – пением птиц, пытающихся отодвинуть от себя ночь, далекими криками детей, возвращающихся с сопок, тихой, очень грустной музыкой, льющейся из выставленного на подоконник магнитофона, тявканьем одного из героев популярного телесериала – голос этот, схожий с собачьим, звучал из квартиры шахтного слесаря Кротова, бедствующего, как и Гордеев, ранеными вскриками вечно ссорившихся супругов Нисневичей, живущих над слесарем Кротовым, но все это не проникало в сон Почемучки. Могли проникнуть только более близкие звуки.
И город Сучан, и их улица, утопавшая в тени высоких деревьев, и дом их жили своей жизнью.
На верхнем этаже их подъезда, в окне лестничной площадки были выбиты стекла – влюбленные молодые люди неосторожно выдавили своими задницами; видно отсюда, с восьмого этажа, было далеко. Розовый вечерний воздух ловко разрезали ласточки, носились, как ножи, с тихим чивканьем, всаживались в огромное красное солнце, плавились в нем, исчезали, сгорали, потом возникали вновь – все в этом мире было взаимосвязано, ничего не пропадало, если что-то вдруг впечатывалось в солнце и вспыхивало огнем, то яркий свет этот вовсе не означал, что кто-то исчез на веки вечные – скорее это означало рождение.
И на месте исчезнувшего Гордеева будет жить другой человек, более удачливый, более богатый, с иной судьбой.
Цепляясь руками за остатки парапета, на которых были выструганы ножиком разные нехорошие слова – молодежь упражнялась в грамотешке, в правильности написания популярных русских выражений, – Гордеев забрался на подоконник оконного проема и глянул вниз.
Все, что находилось там, в зелени и розовине, в туманном от вечернего света оконном проеме деревьев и кустов – находилось очень далеко, в опасном пространстве. Гордееву на секунду сделалось страшно, умирать расхотелось, но по-другому он не мог защитить Почемучку; может быть, и были другие способы защиты, но Гордеев не знал их. В следующее мгновение он стиснул зубы, сжал глаза в узкие беспощадные щелки, глянул влево, потом вправо – боялся испугать людей, – и с сипением втянул в себя воздух.
Переместил взгляд в глубокое розовое небо, в которое ему предстояло унестись, ощутил, что рот ему свела сухая судорога, с силой, кривясь лицом и ощущая боль, раздернул ее, освобождая себе губы…
Пора.
В это мгновение где-то в стороне, за пределами его сознания, послышался дробный испуганный топот детских ног, затем раздался сплющенный, стиснутый расстоянием крик:
– Па-апа!
Это был Почемучка.
Гордеев дернулся, сопротивляясь самому себе, мотнул головой отрицательно и вновь услышал далекий, слабенький, совсем не Почемучкин крик, хотя кричал Почемучка:
– Па-апа!
От крика этого, как от удара, Гордеев качнулся вперед, взмахнул рукой, пытаясь за что-то зацепиться, но цепляться было не за что, Гордеев взмахнул еще раз и с удивлением и страхом обнаружил, что рука прямо в воздухе оперлась обо что-то невидимое, твердое, словно бы кто-то подставил ему свое крепкое плечо.
– Боже! – воскликнул Гордеев смятенно, земля неожиданно оторвалась от него и проворно, с тихим звуком унеслась вниз, накрылась тонким и прочным, похожим на дорогую ткань слоем тумана. Лицо у Гордеева исказилось, губы испуганно запрыгали, он оглянулся, и этот взгляд назад, на бегущего по лестнице маленького человечка, все решил.
Как же он мог оставить этого человечка одного, как? С чего это он решил, что Почемучку, ежели тот останется один, никто не тронет, дом не отнимут, а самого Гордеева, тело его, вместо могилы не засунут под какую-нибудь железнодорожную платформу?
Гордеев застонал, оперся рукой на невидимое плечо и развернулся лицом к Почемучке.
Тот бежал к нему по лестнице и издалека тянул тонкие, розовые, – к Почемучкиной коже не приставал загар, – руки:
– Па-апа!
Боль просадила Гордеева насквозь, будто чья-то беспощадная рапира проткнула сердце, на щеках и шее у него высыпали ошпаривающей гречкой мелкие красные пятна, и он, одолевая боль, пытаясь обрести дыхание, ответно протянул к сыну руки:
– Почемучка!
Спрыгнул с подоконника вниз, сложился пополам, стараясь сломать плоскую железную рапиру, сидевшую внутри, от боли на лбу у него выступили мелкие, как при лютой хвори, капли пота, с трудом перевел дух и сел на теплый, разогретый дневным воздухом бетонный пол. Попробовал протолкнуть твердый комок, возникший в глотке, но попытка оказалась тщетной, и Гордеев закашлялся. Кашлял долго, мучительно.
Почемучка с лету опустился рядом с ним, обхватил обеими руками, прижался головой к его плечу.
– Па-апа-а! – выбил он из себя вместе со слезами, и у Гордеева вновь перехватило горло – мало того, что в нем сидел комок, горло сдавило еще что-то, Гордеев уронил голову, притиснул к себе Почемучку и заплакал.
Он понимал, что не должен плакать – особенно когда рядом находится ребенок, ведь он мужчина, а мужчины не плачут, но не мог сдержать себя… Не имел на это сил. И Почемучка плакал, сидя рядом.
Одно хорошо: слезы обладают очищающими свойствами, более того – они возрождают в человеке мужество, хотя справедливости ради надо заметить: в них есть и обессиливающие свойства – вон как сложно все… Как жить дальше, как бороться, Гордеев не знал, не ведал, чем он встретит завтра грузина-модника в его диковинных полукилометровых ботинках, которых не было даже у Маленького Мука, окруженного сытыми быками, не знал, что будет есть… Хотя одно он понял сейчас, и истину эту усвоил твердо, – Почемучка помог, – умирать нельзя, надо держаться.
Он поднялся и пошатываясь, словно немощный, заметно исхудавший, с испятнанным морщинами лицом – всего одной минуты на это хватило, – обхватил одной рукой Почемучку и, тихонько стеная, начал спускаться по замусоренной, пропахшей кошками и мочой молодых козлов лестнице к своей квартире.
Оттуда, часа через полтора, несмотря на позднее время, – рабочий народ в эту пору вообще уже третьи сны досматривает, – отправился к Жихареву. Честно говоря, он думал, что Жихарев уже спит – завтра ведь наверняка намостырится пятичасовой электричкой в Находку, чтобы сшибить, если удастся, какую-нибудь работенку, – но Жихарев не спал, сидел босой на кухне с мрачным тяжелым лицом, будто собирался пойти добровольцем на войну в Чечню, шевелил пальцами ног и молчал, чего-то про себя соображая – по лицу его было видно, как в черепушке Жихарева протекает мыслительный процесс и если прислушаться потщательнее, то можно услышать скрежет невидимых механизмов, чивканье, схожее с птичьим, звяканье шестеренок и цепи, перекинутой из одного мозгового полушария в другое…
Хоть и слеп был и глух в эту минуту Жихарев, плотно сидел в своих непростых мыслях, а на стук двери голову поднял и приветливо дернул уголками рта, разгоняя губы в улыбке: заходи!
– Ты ружье свое не продал? – с порога спросил Гордеев. Голос у него был бесцветным, очень ровным, будто бы не Гордеев говорил, а некий незнакомый автомат.
– Нет.
– Дай мне ружье. Я не хочу пускать этих гадов к себе на порог.
Жихарев подумал немного и одобрительно наклонил тяжелую голову:
– Хорошее дело! – Наклонил голову сильнее, словно бы хотел рассмотреть какое-то насекомое, поселившееся в рассохшемся полу, среди двух кривых паркетин, в неровной щели. – А вот патронов тебе не дам.
– Почему? – спросил Гордеев, почувствовал, что вопрос его прозвучал глупо – разве не понятно, почему ему боятся доверить полдесятка картонных стакашков, набитых дробью.
На этот вопрос можно было не отвечать, но Жихарев ответил – вяло помотал в воздухе широкой серой ладонью и сказал:
– Не приведи Господь, еще на курок нажмешь, продырявишь какого-нибудь быка, из этих… – Жихарев вздохнул и закончил фразу нехорошим словом. – Менты тогда примчатся и к тебе и ко мне. А сидеть… – Жихарев снова умолк и повозил полными сухими губами из стороны в сторону, – сидеть на старости лет очень не хочется.
– Но как же тогда… – Гордеев в красноречивом жесте вскинул над головой руку, – а звуковой эффект? Отпугивать лихоимцев чем я буду? Стуком приклада о собственную черепушку?
Жихарев вновь шумно, со свистом прогнал воздух сквозь ноздри, вздохнул?
– И это верно. – Пальцем, как крючком, поддел заусенец в ящике стола, с грохотом выдернул сам ящик. Внутри с чугунным недобрым звуком стукнулись друг о дружку патроны. Жихарев выгреб пять штук, подержал в руке, будто согревал заряды, и отдал Гордееву: – Держи. Только в людей не стреляй, понял? Иначе нам с тобою не сдобровать. Засудят. И тебя, и меня.
– Обещаю не стрелять… – тихо произнес Гордеев.
Жихарев знал своего соседа – если тот что-то обещает, то обещание свое обязательно выполняет. Даже если ему на хвост наедет бульдозер.
Гордеев относился к редкой категории людей, которые слова свои держат, чего бы это им ни стоило.
– Но если понадобится ударить поверх голов, либо под ноги – ударю, – добавил Гордеев. – Ладно?
Вновь повозив сухими губами из стороны в сторону, Жихарев крякнул, выбивая в кулак хрипоту:
– Это нежелательно… Но… – Он резким движением откинул руку в сторону, сжал пальцы в кулак – жест был призывным. – В общем, ты сам все понял.
– Понял, – ощутив, как тепло начало натекать ему в виски, – оно заполняло выемки, звонко стучало в черепе, – прежним тихим тоном произнес Гордеев, сглотнул твердый горький комок, вновь возникший в горле, подкинул в руке ружье, ловко поймал – с этой старой двухстволкой он почувствовал себя увереннее. – Вообще, ежели что, я тебя не выдам – сам умру, но ни за что не скажу, что взял у тебя ружье. Никто ничего не узнает.
Он был полон решимости бороться, защищать себя, защищать Почемучку, защищать дом свой, крышу над головой, очаг, жизнь их общую с сыном. Почемучка вернул ему уверенность в себе (как, собственно, и Жихарев), Гордеев ощутил острую необходимость бороться и пойти, если понадобится, на крайние меры, – и он на них пойдет… Конечно, Жихарева при этом он ни в коем разе не будет подставлять – упаси Господь!
Жизнь для него как будто начиналась сызнова.
А с другой стороны, он может действительно сорваться и загнать в ружье патроны с дробью – Порхадзе ведь выведет из равновесия кого угодно, даже бегемота, выигравшего очередную партию в шашки у слона и оттого очень радостного…
Гордеев попытался уснуть, ворочался беспокойно, но так уснуть не сумел – не получилось. Рассвет он встретил в кухне, сидя у холодной плиты и поглядывая в окно. Ружье он держал на коленях.
Порхадзе пришел в десять утра, ярко разряженный – в красном клетчатом пиджаке и синих полосатых брюках, в ботинках, сшитых из дорогого вишневого опойка, с длинными, задирающимися вверх носами. Сзади у него стояли двое быков – дюжих, с железными челюстями и одинаковыми, крохотными, будто бы вырезанными из свинца глазками.
Открыв дверь, Гордеев поспешно отступил назад – боялся, как бы быки не рванулись в квартиру, не выломали ему руки, ощутил, как по лицу, по коже щек, по лбу и шее поползли крохотные мошки. Пшено какое-то, а не мошки.
– Ну что? – небрежным тоном спросил Порхадзе. – Вещички свои собрали.
– И не подумаю собирать.
– Да-а-а? – с неожиданным интересом протянул Порхадзе. – Что, разжились где-то деньгами?
– Нет, пока не разжился.
– Напрасно. Мы вас сегодня выселим.
– Не посмеете!
– Еще как посмеем. – Порхадзе усмехнулся и, дернув шеей, словно бы ему что-то давило на кадык, повернулся к быкам, призывно щелкнул пальцами.
Гордеев поспешно отступил назад, подхватил ружье и ловко, точно, короткими движениями загнал в черные круглые провалы дула патроны и с масляным клацаньем сомкнул стволы.
Выставил перед собой ружье и предупредил:
– Только пусть попробует кто-нибудь из вас переступить порог… Буду стрелять!
Вид у него был такой решительный, что быки разом сделались меньше в росте и попятились. Им захотелось побыстрее уйти из этого дома…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.