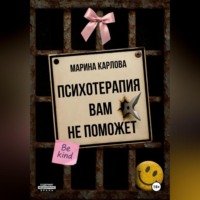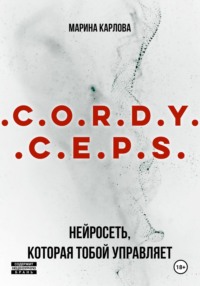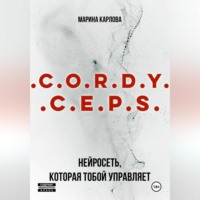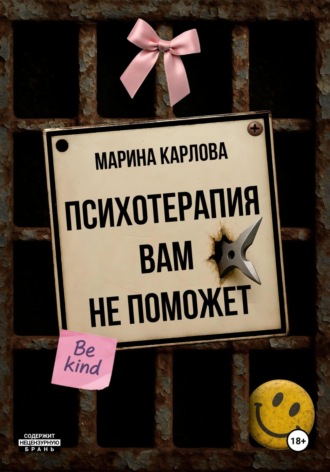
Полная версия
Психотерапия вам не поможет
Настоящий разрыв происходит не в тот момент, когда ты начинаешь лучше к себе относиться. Он происходит тогда, когда ты перестаёшь верить, что с тобой что-то не так. Когда ты понимаешь, что «внутренний ребёнок» – это не твоя подлинная суть, которую надо беречь, а следствие заражения, которое держит тебя в заложниках. Ты не обязан быть себе родителем. Ты не обязан строить с собой отношения. Всё это звучит красиво, но на деле – это ещё одна форма удержания. Ещё один способ остаться в терапии, только теперь ты в ней не только как пациент, а ещё и как лечащий врач.
Ты можешь почувствовать сострадание к себе из прошлого, но это не означает, что тебе нужно взять это прошлое на попечение. Иногда нужно просто признать, что тебя программировали. Что в тебя встроили автоматическую слабость, которая теперь требует постоянного подтверждения любви. И вместо того чтобы выслуживать её заново – ты можешь разорвать этот цикл. Не через принятие, а через отказ.
Почему я имею право так говорить?
Потому что я прожила это сама и увидела, что вся эта хрень про внутреннего ребенка – просто больные фантазии.
Незадолго до того момента, когда я наконец увидела всю систему заражения целиком, я решила снова попробовать “найти внутреннего ребенка”. Но все пошло не по плану, и я (вместо того, чтобы действовать по инструкции) случайно вышла из матрицы.
И не нашла никакого “ребенка”.
После отключения паразитической программы я совершенно четко поняла, что кроме меня здесь больше никого нет. Я – и есть тот “ребенок”, живой, взрослый, настоящий, только теперь это милое дитя в правой ручке сжимает меч Логики, а в левой – бритву Оккама, и всем своим видом выражает готовность пойти и разъебать весь этот лживый пиздец, который 40 лет держал его в пыли под диваном со связанными руками и кляпом во рту.
Ты не сломан. Ты просто не согласен быть частью игры.
Терапевтический язык устроен так, чтобы ты не мог выйти. Все концепции внутри него замкнуты на идее внутреннего ремонта. Как бы ты ни чувствовал себя – это сигнал. Как бы ты ни реагировал – это часть сценария. Как бы ни сложилась ситуация – это материал для проработки. Любой симптом – подсказка, любая слабость – шанс, любое сопротивление – приглашение к исследованию. И если ты решаешь просто выйти, без анализа, без доработки, без ритуала – ты нарушаешь правила. Потому что в этой системе нет двери наружу. Есть только разные уровни глубины.
Если ты отказываешься участвовать, тебя начинают классифицировать: ты избегаешь, ты не готов, ты застрял в травме, ты отыгрываешь сценарий, ты обесцениваешь процесс. Всё это означает одно – ты больше не играешь по правилам. Ты больше не терапевтический субъект – ты перестаёшь быть полем для работы. И в этот момент всё, что система может тебе предложить – это объяснить, почему ты неправ.
Но может быть, ты просто не болен? Может быть, ты не травма, не совокупность паттернов, не внутренняя система с иерархией частей и защит? Может быть, ты – это ты? И твой гнев, и твоя усталость, и твоё нежелание больше копаться – не симптомы, а твой способ сказать: «хватит». Хватит работы над собой. Хватит самонаблюдения. Хватит выдуманного пути, в котором свобода всегда на следующем этапе.
Ты не нуждаешься в исцелении, потому что ты не был повреждён в своей сути. Тебя заразили, тебе переписали реакции, в тебя встроили чужие голоса, чужие оценки, чужие ожидания. А потом убедили, что ты можешь исцелиться, если будешь достаточно внимателен, мягок, терпелив и последователен. Только тогда, возможно, ты вернёшь себе право быть собой.
Но право быть собой нельзя заслужить. Его можно только вернуть. Отказом. Внутренним, прямым, бескомпромиссным. Не через терапевтический инструмент, а через вынос мусора – всего того, что было тебе навязано.
Управление гневом
14 августа, 2010
Местонахождение: Manta
Услышав предрассветное пересвистывание птиц, вылезла из своего большого рабочего кресла и высунулась в окно послушать. За окном хозяйский кот деловито рыл яму. Закончив рыть, примостил на ней свою толстую рыжую задницу и начал громко сцать. Внезапно заметив в окне мой портрет, сказал "мяу?!", удивленно встал, не прекращая процесса мочеиспускания, поудивлялся, закончил, закопал и ушел.
Испытывая в последнее время необоснованные вспышки бешенства, я всерьез задумалась о том, что им (вспышкам) нужно обеспечить необходимый уход и заботу. Не знаю, много ли психов меня читает, но для меня желание сгрызть в щепки мышку, если комп заебал тормозить, в принципе, довольно нормально и буднично в последнее время.
Бешенство есть бешенство, ничего с ним не сделаешь, и если оно появляется, надо давать ему выход. У меня всегда кругом были какие-нибудь соседи, поэтому, во избежание риска появления милиции и санитаров, всегда приходилось себя сдерживать в проявлениях неблагородной ярости, которые на самом деле, думаю я, являются делом довольно-таки нормальным и обычным, особенно для людей, которых с детства воспитывали быть как можно добрее к ближнему своему, и в случае мордобоя подставлять вторую щеку. Поэтому швыряться тяжелыми дорогостоящими вещами, громко рычать и изрыгать проклятия – все это является весьма малодоступным в наших стесненных условиях удовольствием.
Так вот, известный психотерапевтический чувак Александр Лоуэн в таких случаях советует бить кровать. Занятие достаточно бесшумное и, в принципе, в условиях невозможности полной звуковой изоляции от многочисленных соседей, реально приемлемое. В процессе увлекательного чтения мне вспомнилось, что в советское время была отличная терапевтическая практика по высвобождению гнева – выбивание ковров на улице. Только что сопровождать это яростными криками "сдохни, сука" было как-то не принято.
Ну и милая цитата:
"Достижение грациозной плавности всего акта нанесения удара по кровати дается большинству людей нелегко. Напряжение плечевых мышц, равно как и мускулатуры, находящейся между плечом и лопаткой…"
В общем всё в этой жизни нужно делать красиво, товарищи.
***
Ты – субъект или объект?
Все психологические концепции, какими бы современными и заботливыми они ни казались, в конечном итоге делят человека на две роли: субъект и объект. Только делают это не явно. Вместо того чтобы сказать "ты сейчас в позиции объекта – тобой управляют, тебя оценивают, тебя исправляют", они говорят: "давай поработаем с твоей травмой, давай вернём тебя в ресурс, давай подлечим твою самооценку". Но всё это – обслуживание объектной позиции. Субъект не лечит самооценку: у него нет самооценки. У него есть осознание себя как источника.
Объект – это всегда то, на что направлено чужое действие. Он существует в реактивной логике: его оценивают, ему дают рекомендации, его корректируют. Он живёт под чужим взглядом, называет свои желания "странными", свои границы – "жёсткими", свою злость – "проблемной". Он адаптируется, даже если протестует. Он всё ещё внутри чужой системы координат.
Субъект не доказывает, что он прав, и не требует признания. Он не участвует в чужом фрейме. Он не спорит, потому что не принимает правила игры, в которой должен что-то объяснять. Он не оправдывается, потому что не считает себя объектом оценки. Он не играет роль хорошего, ранимого, "прорабатывающегося". Он отказывается быть материалом для чьей-либо работы.
Субъектность – не психотип и не характер. Это точка сборки, где перестаёшь соотносить себя с внешней перспективой. Это момент, в котором ты прекращаешь допускать, что кто-то вообще вправе оценивать твоё существование, твои слова, твои действия. Именно в этот момент возникает фраза, которая не требует защиты или объяснения: "Я не считаю себя объектом вашей оценки." Это не отказ от диалога, а отказ от архитектуры, в которой ты изначально размещён на шкале чьих-то представлений о норме, адекватности или праве на голос.
С этого момента вся структура власти – и в терапии, и в семье, и в обществе – теряет устойчивость. Потому что она держится на том, что ты соглашаешься участвовать. Ты соглашаешься быть увиденным, понятным, принятым.
Субъект не соглашается. Он существует независимо от реакции на него.
Субъектность невозможна как постепенное становление. Она не возникает в результате проработки: это – точка разрыва. Осознание, что всё, что ты пытался выстроить – "хорошие отношения", "безопасную коммуникацию", "доверие" – было построено на изначальной ошибке: ты позволил, чтобы тебя рассматривали как объект. И сам это поддерживал.
Субъект не побеждает в системе. Он выходит из неё. Не за счёт силы, а за счёт способности видеть архитектуру и отказываться в ней участвовать.
Про мечты
1 февраля, 2012
Местонахождение: BsAs
Музыка: Invisible Star – Marina Karlova
Результаты недавнего опроса на тему детских мечт меня, надо сказать, несколько разочаровали. То-ли вы не колетесь, то-ли правда никто ни о чем особенном в детстве не мечтал…
Как насчет стать космонавтом, художником, писателем, актером, балериной? Ну или там, например, археологом, или кладоискателем, или Робинзоном Крузо на необитаемом острове? Или стать ученым и скрестить кошку с баобабом? Изобрести волшебную палочку, поработить вселенную, уничтожить человечество, на худой конец? А?
Я вот мечтала быть моряком, и еще играть музыку собственного сочинения. В какой-то короткий период времени мечтала быть балериной, но не потому, что мне шибко уж нравился балет, а просто у них такие прикольные пачки и тапочки. Было, конечно, и другое – чтоб лето никогда не кончалось, чтоб не надо было рано вставать, и собственный двухкассетный магнитофон. Еще мечтала о сотовом телефоне, но это уже в школе :) – когда о них еще никто и не слышал. Еду, бывало, в автобусе, и думаю – "Эх, вот стоять бы щас и болтать по телефону, вот бы все охуели!.."
Кстати, к последнему: в детстве у меня почему-то было много разных фантазий, оканчивавшихся именно этой фразой. Например:
В детском саду – "Вот бы щас прийти в садик с магнитофоном, вот бы все охуели!.."
Или в школе – "Вот бы приехать в школу на спорткаре, вот бы все охуели!.."
На физкультуре – "Вот бы щас на лошади мимо галопом, пока все тут корячатся, вот бы все охуели!.."
Во взрослой жизни постепенно стало понятно, что для того, чтобы все охуели, чаще всего вообще не надо ничего делать. Они сами, причем иногда просто с раздражающей частотой. :)
Весьма популярная фантазия (и у меня в том числе) – это "А вот бы помереть, чтобы вы все поняли, как вы были неправы". Причины такой фантазии вполне объяснимы и понятны, не от радостной жизни она, конечно.
Вообще, из всех мечт для меня наибольший интерес представляют мечты не потребительские, а созидательские, или как это по-русски. Активные. "Хочу компьютер" – это первый вариант, а, например, "хочу быть психиатром" – это второй.
***
У тебя ужасный характер!
Обвинение в «ужасном характере» никогда не относится к характеру как к внутренней целостности. Это не попытка описать человека, его тип реагирования или внутренние мотивации. Это форма отчуждения. Когда говорят «у тебя ужасный характер», на самом деле имеют в виду: «ты не укладываешься в мои ожидания». Это не суждение о тебе, это реакция на твою несгибаемость, неуправляемость, эмоциональную точность, прямоту, отказ молчать, когда молчание считается правилом хорошего тона. Этот ярлык возникает не из наблюдения, а из столкновения. Его произносят не тогда, когда ты проявляешь реальное зло, а когда ты перестаёшь быть удобным. Ты становишься «ужасным» именно в момент, когда отказываешься выполнять предписанную роль.
Именно поэтому этот диагноз никогда не уточняется. Он всегда звучит как общая формулировка, без конкретики: не «ты солгал», не «ты ударил», не «ты разрушил чьё-то доверие» – а просто «с тобой невозможно». Вся тяжесть, вся конфликтность, вся невозможность коммуникации в этом высказывании приписывается тебе, как будто ты – единственный источник сбоя, а все остальные присутствующие, включая саму систему, чисты, легки и непричастны. Такая формулировка создаёт не диалог, а архитектуру виновности: ты – носитель неисправности, а значит, всё, что ты скажешь в свою защиту, только подтвердит диагноз.
На самом деле, подобные конструкции – не описание поведения, а механизм социальной изоляции. Когда кто-то выходит за пределы привычного, он становится угрозой: не в смысле опасности, а в смысле непредсказуемости. А всё, что не вписывается в схему – дискредитируется. Это и есть логика системы: она не умеет взаимодействовать с тем, что не поддаётся нормализации, и поэтому стремится либо подчинить, либо выдавить. Именно так формируется эффект «ужасного» – не как отражение внутреннего ада, а как следствие того, что ты сохранил способность быть живым в среде, которая воспринимает живое как нарушение порядка.
Фраза «у тебя ужасный характер» может быть произнесена кем угодно: родителем, учителем, партнёром, даже психотерапевтом. В каждом из этих случаев она будет значить одно и то же: ты вышел за пределы допустимого шаблона, и твоя инаковость теперь должна быть осуждена. Это не столько субъективное мнение, сколько реплика системы, озвученная через конкретного человека. Тебя не характеризуют – тебя локализуют. Ты обозначен как участок сопротивления, а значит, подлежишь либо коррекции, либо исключению. В этом смысле язык психологии, говорящий о «коррекции характера», ничем не отличается от авторитарной педагогики или бытовой эмоциональной манипуляции. Всё это – формы обезвреживания того, что не поддаётся управлению.
Объявляя человека «трудным», «сложным», «маргинальным», среда снимает с себя необходимость адаптироваться, слышать, меняться, расширять пределы допустимого. Диагноз становится удобной формой отказа от роста. Вместо того чтобы признать: «я не справляюсь с этой интенсивностью», или: «я не умею выдерживать остроту чужого сознания», произносится: «с тобой что-то не так». Это – проекция. Маскировка ограниченности под обличием объективного заключения. Более того, сам формат такой речи стирает возможность обсуждения. После «ужасный» разговора больше не будет. Потому что ты уже обозначен как проблема.
Особенно ярко это проявляется в семьях, где дети с раннего возраста получают такие характеристики: «упрямый», «невыносимый», «конфликтный», «вечно всё портит». Это не наблюдение за темпераментом – это ответ на то, что ребёнок сохраняет автономию в среде, где от него требуется функциональное подчинение. Отказ сдаться трактуется как дефект. Сопротивление – как невоспитанность. Воля – как патология. И чем живее ребёнок, тем больше вероятность, что он услышит: «у тебя ужасный характер». И чем чаще он это слышит, тем выше вероятность, что он сам начнёт это повторять – сначала внутренне, потом вслух, потом в терапевтическом кабинете, где этот же ярлык может быть закреплён уже в более респектабельной форме: «у вас выраженные черты…», «у вас низкий уровень эмоциональной регуляции», «вы слишком чувствительны».
Все эти формулы – производные одного и того же механизма: системы, которая не может признать существование субъекта без попытки его классифицировать, контролировать или устранить. И если ты слышал такие фразы в свой адрес – не важно, в какой форме – это не про то, что с тобой действительно «что-то не так». Это значит, что ты отказался быть удобным объектом. Это значит, что твоя целостность не смогла быть интегрирована в среду, построенную на подавлении. Это значит, что ты выжил, сохранив свою внутреннюю ось, в пространстве, где от всех ожидалось подчинение системе.
Характер – это не продукт корректировки. Это не то, что можно «исправить», не разрушив вместе с ним личность. Характер – это совокупность твоей воли, твоей реакции, твоих принципов, твоего темперамента и всех тех особенностей, которые не должны подгоняться под чужую переносимость. И если тебя называют ужасным – возможно, это просто доказательство того, что ты остался собой.
Субъект как несовместимость с интерпретацией
Субъектность – не просто ощущение автономии и не черта характера. Это структурная несовместимость с той моделью реальности, в которой всё подлежит оценке, интерпретации и управлению. Объект можно анализировать, объяснять, моделировать. Его можно сводить к функциям, реакциям, отклонениям от нормы. Вся система работает с объектами – даже когда утверждает обратное. Психотерапия обещает признание субъекта, но использует интерпретацию как основной инструмент, а значит, встраивает человека обратно в объектную матрицу. Субъект не может быть понят, потому что он не предназначен для понимания. Он не существует как задача для анализа. Он просто есть.
Субъект – это структура, которая не отражается. Он не поддаётся обратной связи, потому что не запрашивает её. Он не нуждается в корректировке, потому что не существует как ошибка. Он не может быть понятым, потому что любая попытка объяснить его – уже редукция. Он не просит признания, не требует валидации, не настаивает на том, чтобы его восприняли “правильно”. Он – не результат внешнего чтения, а источник сигнала, который не может быть отредактирован без разрушения структуры.
Поэтому субъектность воспринимается как угроза. Не потому, что она агрессивна, а потому что она не входит в чужие схемы. Она не даёт точку опоры для манипуляции, не формирует предсказуемую реакцию, не позволяет встроить себя в формат “нормальности”. Субъект не может быть интегрирован – только уничтожен или вытеснен. В системе, основанной на иерархии, контроле и идентификации, субъект – это глюк. Его невозможно отследить, классифицировать, оптимизировать. Он выходит за пределы интерпретируемого, а значит, становится невыносимым для конструкции.
Сказать “я не объект вашей оценки” – это не жест самоутверждения. Это отказ участвовать в структуре, где оценка – форма контроля. Субъект не требует одобрения, потому что он не участвует в торге. Он не просит быть понятым, потому что его смысл не сводим к интерпретации. Он не адаптируется, потому что не играет в игру. Это не акт сопротивления. Это принципиальная несовместимость с системой, в которой смысл должен быть описан, проверен и признан. Субъект не нуждается в описании. Он существует, и этого достаточно.
Как я вылезла из творческого кризиса
15 августа, 2010
Местонахождение: Manta
Тут такое дело… Наверное, кто-то заметил, кто-то нет, но что касается дизайна, то последние несколько лет я сидела в затянувшемся, мрачном, тяжелом, сером и унылом творческом кризисе.
Все началось примерно после того, как я наполучала кучу наград на всяких разных профильных конкурсах. Золотой Сайт, РОТОР, шорт-лист ADCR… Последней каплей было вожделенное Золотое Яблоко ММФР, которое я в принципе всегда считала несбыточной голубой мечтой. После этого дизайн из радости и удовольствия превратился в тяжелый и изнурительный труд, заниматься которым приходилось, скорее, вынужденно, потому что нужно же было что-то кушать, а найти работу дворника было сущей фантастикой из-за жесточайшей конкуренции.
Только сейчас мне становится понятно, что произошло тогда. Мне показалось, что я достигла своего "потолка" в профессии, и свой Самый Лучший Сайт я уже нарисовала (foxie.ru), а следовательно дальше расти некуда, оставалось работать себе тихонько на своем уровне, и попытаться получать удовольствие.
Но что-то умерло. Я с трудом разбираюсь во всяких научных штуках про мотивацию и прочее, но деньги оказались слабым мотиватором, а пытаться расти больше не хотелось, возможно из-за страха "не оправдать" все свои гордые регалии, если вдруг последующие работы окажутся не столь "гениальными". Само по себе это обычное дело, но в башке у меня однозначно произошел какой-то коллапс, вследствие чего я как дизайнер просто заморозилась на 4 или 5 лет, продолжая при этом как-то работать (иногда даже вполне хорошо), но безо всякого вдохновения, без радости, без удовольствия и без постоянного стремления к новым и лучшим результатам.
Еще меня все раздражало. Меня бесило, что появилось огромное количество свежевылупившихся дизайнеров и "дизайнеров", которые за несколько месяцев схватывают всё, чему нам в свое время приходилось учиться годами. Мы не были тупее, нам просто не хватало информации. Если бы нам в 1998 году кто-то дал то количество ресурсов и информации в сети, которое можно там найти сейчас, включая все эти горы книг, мы бы, наверное, лопнули бы от счастья. По какой-то неизвестной мне причине я отказалась от гонки с "молодежью" и опустила руки, в знак протеста игнорируя все смэшинг магазины, дизайнмаги, хабрахабры и прочие околодизайнерские ресурсы, таким образом оставшись вариться полностью в собственном соку, который на самом деле давно уже весь вышел.
Несколько лет я продолжала снова и снова спрашивать себя, зачем мне продолжать заниматься дизайном, кроме как из чисто практических соображений. Более того, у меня постепенно пропала какая-никакая уверенность, что я хоть что-нибудь в нем понимаю. В принципе, это в некотором роде соответствовало действительности: за это время появился веб 2.0 и прочие CSS3, но меня все это тоже раздражало. Я сидела и брюзжала, как старая вонючая бабка, что все эти новомодные штучки точно так же когда-нибудь устареют и превратятся в никому не нужный хлам, как когда-то это произошло с "хай-теками" и прочими "гранжами" начала 2000-х (и это тоже недалеко от истины). Я просто не могла себе признаться в том, что я боюсь в это лезть, боюсь учить что-то новое, потому что после взлета я панически боюсь провала. Мне казалось, что мои закостенелые мозги, которые в свое время выросли на дизайне образца 1998-2000 годов, уже не в состоянии принять и объять все это новое, блестящее и карамельное. Кроме того, весь этот поток профессиональных наград (там был еще ряд публикаций в таких книжицах, о которых я на заре своего дизайнерства даже мечтать не могла), видимо, заставил меня почувствовать себя Профи, которому уже стрёмно чему-то шибко учиться (какая идиотская ошибка)…
Так получилось (слишком уж я себя всегда ассоциировала со своей работой, хотя это и не очень правильно), что вместе с кризисом творческим накрыл кризис глобальный, который в конце-концов привел к тому, что я все бросила и уехала хуй знает куда. Проблема не в отъезде, а в том, что находясь в состоянии разброда и шатания все равно невозможно в полной мере замечать красоту окружающего мира и по-настоящему ей наслаждаться – какое, нахер, наслаждение, если внутри болото? Хотя, конечно, определенные вещи меня радовали, но, надо признать, в первую очередь из-за своей новизны, пока она некоторое время сохранялась с каждым новым переездом. А потом – снова привычка, снова туман перед глазами и затычки в ушах. И вот когда выносить всю эту катавасию стало уже практически невозможно, я начала выкарабкиваться, потому что иначе оставалось только пойти и утопиться в Тихом океане. Переезд во всем этом, на самом деле, сыграл важную роль: можно очень долго, сидя, например, в Москве, оправдывать себя тем, что это просто вот такой мрачный город, но когда здесь, на берегу океана, в голову все равно слишком часто закрадываются мысли о смысле жизни, очевидно, что в Датском королевстве что-то сгнило.
Нечеловеческое количество размышлений, дистанционная работа с психологом, чтение и медитация в конце-концов начали выводить куда-то в верном направлении. Я не буду вдаваться в подробности, это долго и не по теме, но до меня стали доходить причины и следствия всего, что со мной происходило и происходит. Я начала рисовать и вместе с этим понемножку выбрасывать застарелые страхи, связанные с собственной творческой несостоятельностью. Мне было странно вдруг понять, что даже если я плохой художник, хреновый фотограф и посредственный дизайнер (ну, это вранье, конечно, гыгы) – от этого мир не рухнет и общество не бросит меня в темную и вонючую яму всенародного презрения.
Вообще, я раньше слышала, что успех – дело опасное и может стать причиной кризиса, но как-то не думала применять это к себе (оно и понятно, некоторые вещи очень тяжело заметить, если они происходят с тобой, а не с кем-то там левым, про которого, как правило, всем все "сразу ясно" :) Тем более мне сложно было согласиться с идеей о том, что я сама способна затащить себя в настолько затяжную и глубокую жопу.