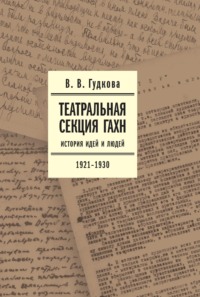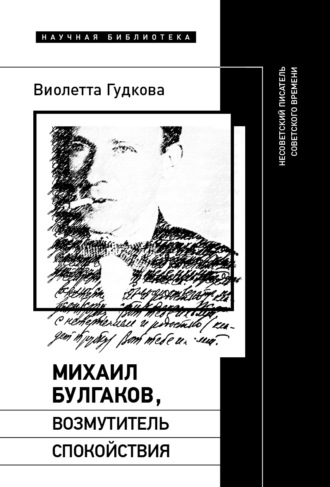
Полная версия
Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени
11 октября в Доме печати состоялся «Суд над „Белой гвардией“» – диспут о спектакле «Дни Турбиных». Хроникер писал:
И суд начался! И началась горячая «баня». Главные «банщики» – оппоненты: зав. клубной секцией МК ВКП Орлинский, автор мейерхольдовского «Треста Д. Е.» Подгаецкий, присяжный оратор Дома печати Левидов106. И еще, и еще… Почти все они пришли в полной боевой готовности, вооруженные до зубов цитатами и выписками <…> В «общем и целом» все ораторы, с разных только «концов» и «точек», сошлись на резком осуждении «Дней Турбиных» как пьесы неверной, художественно фальшивой и чужой. <…> Артисты Художественного театра хранили молчание, на требования публики высказаться ответили отказом («не уполномочены, а Константин Сергеевич болен и не мог прийти»)…107
В свидетельствах очевидцев остался еще выкрик из зала некой гражданки, на трибуну не поднимавшейся: «Все люди братья!»
18 октября 1926 года осведомитель сообщает начальнику СО ОГПУ Дерибасу:
Вся интеллигенция Москвы говорит о «Днях Турбиных» и о Булгакове. От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим.
Достать билет в 1 МХАТ на «Дни Турбиных» стало очень трудно. Говорят, что более сильно пошли рабочие, т. к. профсоюзные льготные билеты108.
Пьеса сама по себе ничем бы не выделялась из ряда современных пьес и при нормальном к ней отношении прошла бы как обычная премьера (хочется верить информатору. – В. Г.). Но кому-то понадобилось, чтобы о ней заговорили на заводах, по окраинам, в самой гуще – и вот результат: билета на эту пьесу не достать109.
Досадуя, он противоречит сам себе: начиная с утверждения, что о «Днях Турбиных» говорит «вся интеллигенция», сообщает о небывалом шуме и на рабочих окраинах.
Неспроста молчали несколько дней после премьеры (тут он попросту искажает факты, отклики посыпались на следующий же день. – В. Г.), а потом сразу начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву. Мало того, начали дискуссию в Доме печати, а отчет напечатали по всем газетам. Одним словом, все проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это – вода на мельницу автора и 1 МХАТа110.
Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира») усиленным темпом готовится в студии им. Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха «Моск. Общ. Драм. Писателей» выдало Булгакову колоссальный гонорар <…>
Лицам, бывшим на генеральной репетиции «Дней Турбиных», а потом вместе ужинавшим (! – В. Г.), автор Булгаков в интимной беседе жаловался на «объективные условия», выявившие контрреволюционность пьесы <…>
Около Худож. театра теперь стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на «Дни Турбиных» по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа, весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки «Дней Турбиных». <…>
В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по 4 и 6 часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу. <…> Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением»111.
Под текстом стоит подпись: «Нач. 5 Отд. СО ОГПУ Рутковский»112.
Слухи, кругами расходившиеся по Москве, будут сопровождать Булгакова всю его жизнь.
Дважды повторенная уничижительная оценка пьесы и предположение, что газетная кампания, драматичная и мучительная для Булгакова, была кем-то организована, подталкивают к мысли, что донесение это принадлежит перу литератора-конкурента, который присутствовал и на генеральной репетиции, и на товарищеском ужине после нее (что сужает круг возможных информаторов) и либо был собеседником в той самой «интимной беседе», либо внимательно слушал ее, сидя неподалеку. Но открывшая свои хранилища на какое-то время преемница ОГПУ ФСБ фамилии своих штатных и нештатных секретных сотрудников по-прежнему хранит в тайне.
О Булгакове в эти месяцы высказывались и представители интеллигенции. Например, поэт и литератор, вдохновенная Л. Рейснер113 писала о «Белой гвардии»:
Возможна ли у нас в СССР «справедливая критика»? Конечно, нет! Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и вредную. Его книга – книга врага, и она не будет признана. Устрялов – замечательный публицист, и Устрялова бьют и будут бить, потому что он враг, потому и опасный, что необыкновенно умный, талантливый. Со всеми ими наша критика ведет гражданскую войну, т. е. самую беспощадную изо всех войн. Когда не хватает пушек, бьют дубинами114.
Среди зрителей Москвы середины 1920‑х, можно предположить, было немало тех, кто прошел через пусть не тот же самый, но схожий с тем, который встал перед героями «Дней Турбиных», выбор. Принять случившееся как новую данность? Эмигрировать в неизвестность чужой страны, утратив профессию, – либо остаться среди новой и, похоже, неприветливой неизвестности дома. Прежняя устоявшаяся жизнь сломана, исчезли и многие привычные места службы. Нужно налаживать новые связи, устраивать быт. Не каждый склонен к рефлексии и способен ясно видеть происходящее. Театр оказался местом силы, нравственной поддержки и надежды.
Здесь человек понимал, что он не одинок, что подобную сумятицу мыслей и чувств переживали многие, что они выжили – и вот собрались у рождественской елки. Что можно жить дальше, опираясь на прежние ценности: дружбу, любовь, порядочность. Один из критиков был точен, когда писал, что социальный смысл «Белой гвардии» «в консолидации вокруг произведения всех мещанских настроений – примирения, общечеловеческой любви и проч.»115.
И именно в эти точки били агрессивные рецензенты. Обвинения свидетельствовали, по-видимому, о существенных напряжениях внутри страны и власти. Как можно было увидеть вражду к «коммунистическим идеалам рабочего класса» в пьесе, где не было речи ни о рабочих, ни об их идеалах? Кому была страшна «белогвардейщина» в 1926 году? О каком «фашизме» можно было рассуждать в связи с Турбиными? Еще того нелепее выглядело сравнение литераторов, испытывающих влияние драматурга, появившееся тремя годами позднее, с «подкулачниками». Зловещую параллель проводил В. Киршон: «Если в деревне, кроме кулаков, имеются подкулачники, то в искусстве, кроме Булгаковых <…> имеются подбулгачники»116. Обвиняла сама форма слова.
25 октября И. Нусинов в стенах Комакадемии (на секции литературы и искусства) читает доклад о творчестве Булгакова, в котором не слишком удачно формулирует упрек тем, кому булгаковские вещи нравятся: «фальшивой репутацией является прославление Булгакова»117.
Еще одним толчком к массовому срыву критики в ругательства станет афиша Художественного театра, появившаяся накануне премьеры «Дней Турбиных» и поместившая пьесу Булгакова среди сочинений Эсхила, Бомарше, Шекспира и Сухово-Кобылина. Зрительский бесспорный успех плеснул масла в огонь. Быстро вспыхнувшая известность Булгакова-драматурга задела многих причастных к литературе знакомцев. Дм. Стонов писал Ю. Слезкину 8 октября 1926 года:
Думаю, что «московские новости» тебя еще интересуют, разреши оторвать тебя на несколько минут от работы. В центре событий – пьеса Булгакова «Дни Турбиных». Ее разрешили только в Художеств[енном], только в Москве, и то – говорят – скоро снимут. Пресса ругает (Луначарский и др.), но и публика не хвалит. Прав был ты, прав: Бул. – мещанин и по-мещански подошел к событиям118.
Редкие голоса защитников спектакля терялись в многоголосом хоре осуждающих и автора, и театр. Но все же они были. Так, один из зрителей напоминал: «…критика забыла, что пьеса поставлена на пороге 10‑й годовщины Октябрьской революции, что теперь совершенно безопасно показать зрителю живых людей…»119, а Л. Сейфуллина говорила об авторе «Дней Турбиных» как о человеке, «честно взявшем на себя задачу описания врага без передержек»120. А. Пиотровский увидел в спектакле
рост основного театра, его прямое и непосредственное, руководимое Станиславским продолжение. И эта молодая труппа показала превосходную одаренность и отличный, чисто мхатовский и в то же время свежий, сильный и жизненный стиль. «Дни Турбиных» выдвигают малую сцену первого МХАТ в ряд прекраснейших молодых трупп Москвы121.
Страсти не успокаивались, и через четыре месяца спор о «Днях Турбиных» был продолжен еще на одном диспуте – в Театре имени Мейерхольда, где выступил и автор. Только теперь МХАТ ответил на нападки, защитив и автора, и спектакль. Заведующий литературной частью МХАТа П. А. Марков, по чьей инициативе и произошло знакомство «художественников» с молодым прозаиком, говорил о самых важных, принципиальных вещах. На фоне громких обвинений его мысли, видимо, показались не слишком существенными и, похоже, никого из нападавших не смогли переубедить.
Все обставлено так, чтобы можно было посмотреть в лицо человека, – говорил Марков. – Тут есть трагедия людей, есть мрак, который покрывает их за этими кремовыми занавесками, в эту суровую эпоху. <…> Тут-то и заключено самое важное для Художественного театра: раскрытие внутренних судеб человека и через это внутреннее раскрытие человека ход к эпохе…122
«Трагедия людей и раскрытие внутренних судеб человека» были именно теми темами, которые волновали многих в ситуации исторического перелома. И кроме бдительных коллег, сотрудников ОГПУ и прочих представителей идеологического слежения и контроля, существовали еще и зрители!
Именно на этом диспуте Луначарский отыщет точные слова, верность которых будет подтверждена временем: «„Турбины“ были первой политической пьесой на нашем горизонте, которая ставила серьезно социально-политические проблемы»123. Не только о внутренних судьбах частного человека, но и о направлении развития страны рассказывал «домашний», «семейный» спектакль Художественного театра – вот что было высказано наркомом.
Трудности при выпуске спектакля, слухи о которых мгновенно разлетелись по Москве, привлекли внимание и широкой публики. Возмутителем театрального спокойствия был не неизвестный автор, а уже начавший обретать художественный успех литератор с определенной идеологической физиономией.
Отзывов восхищенных и понимающих было немало, но они скрывались в переписке друзей, домашних обсуждениях, дневниковых записях и по большей части оставались Булгакову неизвестными. Как, например, дневник образованного милиционера Гаврилова, дежурившего на вечерних представлениях Художественного театра и ведущего записи своих театральных впечатлений.
Гаврилов смотрел «Дни Турбиных» более сотни раз, иногда ему приходилось выстаивать спектакль на ногах (когда появлялись важные гости, он уступал свое место в 3‑м ряду амфитеатра). После сорока просмотров, выучив звучащий текст спектакля наизусть, он записал его для себя, создав аналог самиздатского экземпляра (пьеса будет опубликована лишь спустя 30 лет). Не раз и не два Гаврилов сообщает о случаях истерик в зрительном зале, связывая их с хорошей игрой (спектакль шел неровно, вводились новые исполнители, исподволь менялся рисунок мизансцен и проч.). О многом сообщает историку театра и такая запись:
Как слышно из разговоров в публике, «Бронепоезд» смотрят обычно по одному разу, а «Дни Турбиных» даже по 6 раз и более; один гражданин видел «Дни Турбиных» более 20 раз, и все за плату124.
Но вернемся к перипетиям вокруг «Дней Турбиных», связанных, в том числе, и с финансовым положением театров.
К удаче современного исследователя, в решающие сентябрьские дни перед выпуском спектакля Вл. И. Немирович-Данченко находился за границей, и О. С. Бокшанская отправляла ему длинные, наполненные деталями и оценками как внутритеатрального, так и более широкого контекста, письма-отчеты.
Так, 10 сентября 1926 года, мельком сообщая, что не высылает текста «Дней Турбиных», так как он все еще не утвержден, – писала:
При этом все условия – и вообще, и в театре – сильно изменились за год. Сейчас нельзя говорить, нельзя заикаться ни о каких дотациях, ни о каких субсидиях. Сейчас могут говорить только те коллективы, которые себя окупают. Это правда, это верно, это непреложно. И при всем великолепном отношении сверху к Художественному театру никто из них не думает, что это отношение должно выражаться в какой-то реальной материальной помощи, в каких-то послаблениях. Жизнь теперь стала на строго деловую линию125.
Что же до новостей в связи с готовящимся спектаклем, то О. С. Бокшанская, человек театра до мозга костей, в очередном послании сообщала, что вокруг «Дней Турбиных»
развернулись страсти. По поводу этой пьесы происходят диспуты, кто-кто только не говорит о ней. Все это создало нам громадную рекламу. Пьеса делает аншлаги подряд…126
Она же, 20 октября:
С «Турбиными» все так же: идет травля в газетах и журналах, и одновременно идет такой спрос на места, что всегда множество людей отходит от кассы ни с чем – все билеты проданы <…> В виде самой большой милости теперь можно выпросить места «постоять».
И тут же:
Самый больной и ужасный вопрос у нас – наше безденежье. Театр весь в долгу. По векселям долгу около 100 000, и все векселя срочные до 1 января127.
В скобках замечу: в день генеральной репетиции «Ревизора» в Театре имени Мейерхольда, на которой был и Булгаков, несколько упал сбор на «Днях Турбиных» – театралы смотрели мейерхольдовскую премьеру.
2 ноября Бокшанская сообщает Немировичу, что «пьеса эта дает громадные сборы. При объявленных на нее несколько повышенных ценах (выделено мной. – В. Г.) она делает в вечер не менее 4000 р.128 Лучшие спектакли Художественного в эти недели на круг, за вечер приносят 2600, 2800 рублей»129.
Когда-то в разговоре со мной П. А. Марков на вопрос, кто принял спектакль, ответил: «Все». – «Кто не принял?» – «Все»130.
Тогда ответ показался не совсем ясным. Теперь понятно, что хотел донести до собеседника мудрый современник Булгакова. «Все, кто не принял» – те, кто имел вес в публичном поле и был противником драматурга. «Все, кто принял» – те, кто ходил на спектакль еще и еще, но не имел права голоса в печати, а таких было в Москве множество.
Любопытно, что в прессе звучали предположения, что герой «Турбиных» непременно станет и героем фильмов. Предвосхищая это и видя отражение черт Алексея Турбина в герое фильма «Сорок первый» (реж. Я. Протазанов по одноименной повести Б. Лавренева), В. Ашмарин писал, что спектакль «Дни Турбиных» – это «сменовеховский плевок» на «горячий утюг революции»131.
В ноябре 1926 года после двадцати аншлагов на «Турбиных» впервые в кассе случился недобор в полторы сотни рублей. «Ясно, что недобор может получиться только от непродажи первых мест (по 7 р.), т. к. в Москве немного людей, которые могут выбросить на билеты такие деньги. Дешевые же билеты раскупаются с бою»132, – свидетельствует О. С. Бокшанская.
Кто же покупал дешевые билеты? Уж, наверное, не нэпманы. Тема отношения рабочего зрителя к спектаклю Художественного театра заслуживает отдельного разбора.
Несмотря на утверждения, звучавшие с трибун диспутов, что «рабочему это не нужно» и что рабочему Турбины не просто неинтересны, но даже враждебны (как в статье «В Камергерском переулке. Дела и люди Художественного театра: повернется ли 1‑й МХАТ лицом к рабочему зрителю?», в которой неизвестный автор утверждал, что МХАТ ставит «чуждые», «упаднические», «далекие и неинтересные рабочему зрителю пьесы, например „Дни Турбиных“»133), ряд свидетельств говорит об обратном.
Так, Старостин, секретарь культкомиссии Прохоровской Трехгорной мануфактуры, возмущен тем, что в то время как интерес рабочего зрителя к спектаклю «Дни Турбиных» «все возрастает <…> удовлетворение спроса прогрессивно падает»134. А М. Анчарова сообщает о мнении заведующего центральной распределительной кассой льготных билетов Петрова о необходимости «принудительного ассортимента»: «Если стадное чувство заставляет рабочего тянуться на <…> „Дни Турбиных“, то я считаю нужным заставить его пойти и к Мейерхольду…»135
Вопреки утверждениям, что спектакль был адресован исключительно «бывшим людям», остаткам буржуазии и заблудившимся в идеологии интеллигентам, рабочие хотели видеть этот спектакль. Не случайно перед гастролями МХАТа в Ленинграде в 1928 году проходит общегородское собрание театральных рабкоров, которое выносит постановление о включении «Дней Турбиных» в гастрольную афишу136. Дело в том, что пьеса по-прежнему разрешена одному лишь МХАТу, к показу только в Москве, и вывоз ее за границы столицы требует специальных решений.
Добиться билета на «Дни Турбиных» с обычной профсоюзной скидкой – задача почти неразрешимая, – возмущались в журнале «Программы государственных академических театров». – При трех-четырех спектаклях в неделю в течение двух месяцев (январь – февраль) на эти спектакли было выделено только 1620 мест.
Далее, будто спохватившись и резко меняя логику рассуждения, автор заметки продолжал:
Кстати, необходимо отметить, что МХАТ-1 в своем хозрасчетном увлечении чересчур часто (четыре раза в неделю) ставит «Дни Турбиных», «Пугачевщина» совсем снята с репертуара, «Декабристы» крайне редко появляются, да и весь репертуар как-то скомкан во славу «Турбиных». Даже «Любовь Яровая», этот боевой спектакль сезона, ставится реже, чем «Турбины»137.
О булгаковских спектаклях то и дело вспоминали в связи с иными премьерами, неустанно проводя параллели. Выразительное и о многом говорящее описание стычки с критиком после спектакля «Любовь Яровая» (ленинградский Большой драматический театр, реж. Б. М. Дмоховский) оставил автор журнала «Рабочий и театр»:
В «кулуарах», вернее, в коридорах в день премьеры горячие споры.
Прижали критика к стене и пытают.
– Вы говорили, что это Тренев с поправкой на Булгакова!!
– Никогда не говорил!
– Как же – сам слышал!
– Злостная инсинуация.
– Значит, не вы? Кто же это мог сказать?
Критик смылся. <…>
Белые. Вот, только что, всерьез, при полном освещении показали парад, манифестацию. Передернуло. Любование белыми. Ставка на внушительность и величественность.
И вот другая постановка. <…> Вместо врага – живгазетные, смешные фигуры.
Что же это? Ведь нельзя же, право, при рассматривании «белой половины» оглядываться на Булгакова, да и нельзя перегибать палку и делать врагов смешными и неубедительными138.
За сезон 1926/1927 года спектакль посмотрело 113 409 зрителей139, аншлаги продолжались и тогда, когда число представлений перевалило за сотню. А. Глебов сокрушенно объяснял популярность «Дней Турбиных» тем, что «публика всех классовых категорий тянется к современности»140. По-видимому, «Дни Турбиных» завоевывали все большее число сторонников, по-прежнему не имеющих доступа в печать.
17 декабря 1926 года главный администратор МХАТ Ф. Михальский получает письмо от уполномоченного по театральным делам ТАСС:
Постановка «Дней Турбиных» вызвала большой шум в московском театральном и художественном мире. Поднялась целая дискуссия, следует ли советскому театру ставить такую пьесу, где некоторые белогвардейцы выведены в слишком идеализированном виде. То, что «Дни Турбиных» идут почти беспрерывно в течение нескольких месяцев, доказывает, что вопрос решен в положительном смысле.
И вполне правильно. Для нас было бы мало чести, если бы вся наша победа сводилась лишь к победе над пьяной оравой белогвардейцев, среди которых не было бы некоторой части более достойных противников.
Ничего антисоветского в пьесе, конечно, нет…141
Когда полвека назад, на исходе 1960‑х, началось изучение творчества Булгакова, фигуры его критиков вызывали общее возмущение, и только. Агрессивные, не слишком талантливые, те, кто регулярно выступал в печати, влияя на умы, стремясь сделать свою точку зрения единой для всех. Пришло время обсудить серьезность позиции противников спектакля и попытаться ощутить искренность либо фальшь упреков людей, писавших о «гражданской войне», «белогвардейщине» и неприятии «рабочего класса и его коммунистических идеалов», «шовинизме» и «фашизме», а еще и «пошлости», «мещанстве» и художественной ничтожности пьесы.
Взаимоотношения Булгакова и современной ему критики дают основания утверждать, что писатель был внимательно прочитан и прекрасно понят современниками – но пошел вразрез с теми, кто оказался готовым расстаться с ответственностью личности за путь и судьбу страны и собственные поступки, кто воспринял как правильное, «полезное», нужное – наступающее единомыслие писательского «коллективного хозяйства». И дело было не в отдельных «преступных личностях», а в движении общества к диктатуре сталинщины. Именно противники булгаковского творчества – с той зоркостью, которая порой рождается враждебностью, – делали достоянием общественности, договаривая, переводя с языка художественных образов на не допускающий разночтений и двусмысленностей понятийный язык – сущность, телеологию, да и особенности поэтики произведения писателя.
Множество недалеких людей пытались поймать миг удачи, напав на слабого, назначенного виновным. Затравив одну жертву, переходили к следующей до тех пор, пока неожиданно для себя сами не оказывались ею.
Сегодня полезно всмотреться и в эти судьбы. Сказать о том, что многие из них попали под тот же каток репрессий, который сами же и организовывали несколькими годами раньше. А. Орлинский и В. Киршон, Р. Пикель и Мих. Левидов, Ф. Раскольников и молодой следователь С. Г. Гендин, допрашивавший Булгакова накануне премьеры, – все они десятилетием позднее были убиты той самой властью, за которую они сражались, с Булгаковым в том числе. И список этот может быть продолжен.
Многие из них начинали свой путь в юности как революционеры, проходили через университетские волнения и сходки, распространение прокламаций, ссылки, революции марта и октября. Рано вступали в партию, свято верили в идеалы большевизма и не просто занимали посты, а истово служили идее революции. Как правило, не слишком образованные, они шли в фарватере главенствующих идей эпохи. Кому-то удалось прозреть раньше, чем оказаться брошенным в топку, кто-то так и ушел, не осознав причин собственной гибели.
Их слова писались и печатались, начиная жить отдельной жизнью, создавая вторую реальность, и пьесу вместе с ее автором накрывала мрачная пелена злоумышленного, преступного деяния. Обвинения порой были абсурдными, но их последствия – вполне практическими. «Классовая борьба в театре – это реальность, которую отрицать невозможно»142, – настаивала журнальная передовица.
Обвиняли Булгакова и в сменовеховстве143. Вряд ли Булгаков с этим согласился бы, судя по его репликам на страницах дневника в адрес Василевского Не-Буквы, Бобрищева-Пушкина и других и горьким мыслям об их человеческих качествах и собственной участи144.
Здесь уместно вспомнить об истории с запрещением пьесы не столь талантливого, но плодовитого автора, нечаянно угодившего в болевой нерв времени.
В мае 1922 года на сцене московского Теревсата (Театра революционной сатиры) прошла премьера пьесы Т. Майской «Россия № 2»145.
Спектакль о том, что стране нужно дружелюбно встретить своих граждан, эмигрировавших после революции, но теперь одумавшихся, прозревших и искренне стремящихся возвратиться, чтобы начать работать на благо родины, имел шумный успех. Автора несколько раз вызывали на поклоны, зрители хлопали, тем же вечером появилась рецензия в «Вечерних известиях», затем в «Правде», «Известиях ВЦИК», «Рабочей Москве».
Самым щедрым на похвалы оказался критик «Известий ВЦИК»:
Сюжет анекдотичен, – отмечал он. – Но анекдот дал возможность автору нарисовать уголок эмигрантской жизни. <…> В пьесе много от сменовеховства, от милюковщины, от Бурцева. <…> Было не скучно, а все виды искусства хороши, кроме скучного. <…> У подавляющего большинства пьеса имела безусловный успех. Надо отдать справедливость автору: некоторые роли написаны – в том числе роль главной героини – очень удачно. Старые театралы знают, что хорошо написанные роли – хорошая пенсия автору. Хорошая роль – это долгий век пьесе. В этом смысле надо с уверенностью предсказать и пьесе Т. Майской долгую жизнь. <…> Автора дружно вызывали и кричали «Спасибо!»
Хвалебный отзыв внезапно обрывался посткриптумом:
По распоряжению политсовета, последовавшему сегодня, пьеса Т. Майской снимается с репертуара и театр Теревсат закрывается. Жаль!146
На следующий же день спектакль был снят, а сам театр закрыт.
Театральным успехом власти не то что с легкостью пренебрегли – скорее, именно этот безоговорочный успех и подтолкнул к решительному шагу.
Что же их испугало?
«Милюковщина» пьесы, по формуле рецензента, отсылавшая к позиции П. Н. Милюкова147, одного из недавних министров Временного правительства, основателя партии кадетов, и упоминание имени еще одного известного эмигранта, яркого публициста В. Л. Бурцева148, уточняли причины отторжения властями, казалось бы, безобидной пьесы Т. А. Майской. Оба политика, и Милюков, и Бурцев, не скрывая морального неприятия большевизма, призывали соотечественников «убить в себе психологию гражданской войны»149.