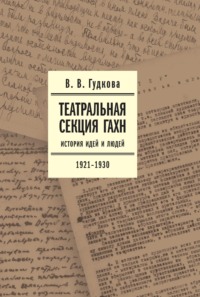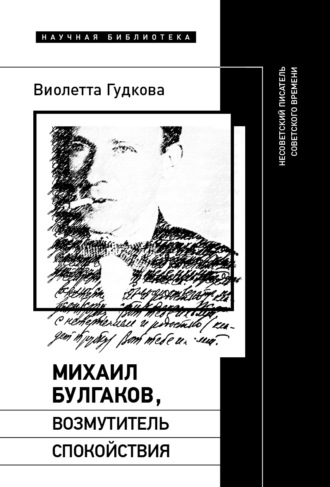
Полная версия
Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени
Не следует, конечно, это преувеличивать, но у меня такое впечатление, что несколько лиц, читавших «Бел<ую> гвардию» в «России», разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением58.
Булгаков посещает московские литературные кружки, слушает новые вещи коллег-беллетристов, читает свои сатирические повести. 7 марта на «Никитинском субботнике» в присутствии нескольких десятков слушателей (участники оставляли подписи в журнале) читает «Собачье сердце». Один из них, М. Я. Шнейдер, говорит на обсуждении: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации своего отношения к происшедшему» – и высказывает предположение, что автор «выше своего задания»59.
Булгаков начал пересочинять роман «Белая гвардия» в пьесу без какого бы то ни было внешнего толчка (заказа), по внутреннему побуждению. Пережитое в Киеве 1918 года не отпускало писателя. Видимо, роман, не получивший полноценного обнародования, то есть ни читателя, ни прессы, ощущался автором как неоконченное дело. Требовал осуществления и драматургический дар.
Но хотя пьеса рождается из романа, несколько миновавших важных и бурных лет исподволь меняют оптику автора. «Перевод» прозы в драму приводит к рождению новой вещи.
В знакомстве Булгакова с Художественным театром, наверное, сыграла свою роль случайность (режиссер Б. Вершилов мог и не прочитать роман в закрывшемся журнале). Но встреча МХАТа (с его поисками материала для спектаклей на современную тему) и нового московского драматурга не могла не произойти.
И тут необходимо принципиальное уточнение.
Известно, что при постановке «Дней Турбиных» рядом с режиссером (И. Я. Судаковым) и актерами сидел автор, о котором позже К. С. Станиславский скажет:
Большие надежды возлагаем на Булгакова. Вот из него может выйти режиссер. <…> Сужу по тому, как он показывал на репетициях «Турбиных». Собственно – он поставил их, по крайней мере, дал те блестки, которые сверкали и создавали успех спектаклю60.
Раньше по умолчанию предполагалось, что первую пьесу в Художественный театр принес начинающий литератор. Сегодня можно утверждать иное: во МХАТе появился автор сложившийся, со своей художественной идеей, со своим, весьма определенным видением мира и людей в нем (что, в свою очередь, предполагало и новизну конструктивных и стилистических приемов).
Если считать начало походов в театр гимназиста с шестнадцатилетия, а не раньше (что, скорее всего, не так), то житель Киева Михаил Булгаков, родившийся в 1891‑м, к 1916 году обладал целым десятилетием замечательного опыта театрала. (Разыгрывание шарад и участие в домашних любительских спектаклях, привычные для интеллигентных семей того времени, как и сочинение пьес для этих представлений, оставим за скобками.)61
Первые театральные впечатления Булгакова относятся к началу XX века. В драме – сцена за обязательным занавесом, в опере – дирижер, раскланивающийся из оркестровой ямы.
Какие только художественные стили, актерские индивидуальности, режиссерские направления ко времени своего появления во МХАТе он не видывал!
Начиная с соловцовского театра в Киеве, где молодой Булгаков познакомился с искусством Степана Кузнецова и Павла Орленева, Елены Полевицкой и Веры Юреневой, продолжая страстной увлеченностью оперой (известно, что любимые слушал десятки раз, оставляя билеты на память). В первые годы московской жизни, как вспоминала позже его вторая жена Л. Е. Белозерская, мечтал увидеть сочиненную им «французскую комедию» «Белая глина» на сцене театра Корша, и чтобы в ролях были заняты Николай Радин и Василий Топорков62.
Во время пребывания во Владикавказе (1919–1921) Булгаков сочинил пять пьес, четыре из которых были поставлены (что означало, по-видимому, и некое участие в их подготовке). Автору будущих «Записок покойника» местные актеры хорошо известны. В письме к двоюродному брату из Владикавказа 1 февраля 1921 года сообщает: «Поживаю за кулисами, все актеры мне знакомые, друзья и приятели…»63
И игру этих провинциальных актеров умел ценить (об одном из них – Аксенове – даже сочинил очерк, сейчас мы бы назвали его «актерским портретом»)64, восхищенно отзывался о молодой актрисе Лариной, играющей роль Анатоля Шоннара в его пьесе «Парижские коммунары»65, отосланной на организованный Масткомдрамом (Мастерской коммунистической драмы) конкурс драматических сочинений в честь Парижской коммуны.
Во Владикавказе служил заведующим литературным отделом, заведующим театральным отделом. Был лектором. Деканом театрального факультета Горского народного художественного института.
Переехав в Москву, записывает в дневнике <26> января 1922 г.: «Вошел в бродячий коллектив актеров: буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль»66.
Не намеренная утверждать, что с появлением Булгакова-актера в этих труппах воцарялось высокое искусство, замечу только, что любая работа непременно что-то дает человеку – если он способен и хочет предлагаемое взять.
В Художественный театр пришел совсем не неофит.
В связи с сообщениями о том, что пьеса Булгакова репетируется на сцене самого влиятельного театра страны, активизируется критика. Рецензенты обращаются к опубликованным прозаическим вещам писателя. «Рассказы М. Булгакова цельны, выдержаны, единое в них настроение и единая тема. Тема эта – удручающие бессмыслица, путаность и никчемность попыток строить новое общество… Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета»67, – констатирует Л. Авербах. Повести Булгакова – «вредное литературное явление», пример «ново-буржуазного <…> выступления»68 – утверждает Г. Лелевич. Сборник рассказов «Дьяволиада» писателя «с определенно устряловской, сменовеховской необуржуазной идеологией <….> заострен против революции»69, – уверен Г. Горбачев.
Таковы выводы о настроениях молодого литератора, долженствующие насторожить и встревожить театр. Тем не менее МХАТ не отказывается от автора, сумевшего выразить важные настроения публики и сделавшего это талантливо: современных пьес катастрофически не хватает.
Перипетии общественной борьбы, разгоревшейся вокруг спектакля Художественного театра, проявили и обстоятельства идеологического характера (возмущение власти смелостью и неуместной «объективностью» МХАТа, защитившего пьесу и автора), и обстоятельства субъективные (протест менее одаренных литераторов против бурного успеха драматурга талантливого и отважного). Сочинение пьесы и борьба за нее продолжались больше полутора лет, медленно продвигаясь к сценическому результату.
Летом 1926 года Булгаков пишет режиссеру А. Д. Попову о переутомлении и в числе причин упоминает «…гонку „Гвардии“ в МХАТе 1‑м (просмотр властями!)»70.
В июне, когда в прессе утверждалось, что вот-вот все попутчики перейдут в пролетарский лагерь и «командному составу» писателей «правого фланга», Ф. Сологубу, Евг. Замятину и Булгакову «останется только уложить их идеологические чемоданы»71, проходит генеральная репетиция (их было несколько).
Надо сказать, что в последние десятилетия к многочисленным источникам, опираясь на которые исследователи изучают творчество и биографию писателя, прибавились агентурные сводки ОГПУ – НКВД 72, составившие сегодня немалую и полезную часть документальных свидетельств. Характеристики героев, данные осведомителями, их репортажные заметки о неосторожных фразах, ситуациях, образе жизни и мысли того, за кем следят, нередко – вхожими в булгаковский дом, присутствующими в публичных местах писательских сборищ, ресторанов, театров, дружеских встреч, стали неожиданным и ценным материалом.
Разные в интеллектуальном отношении, косноязычные либо владеющие литературной речью авторы, с большей или меньшей точностью воспроизводящие разговоры, реплики тех, о ком составляют отчеты, дают представление не только об умонастроениях жертв, наводя на резкость, отшелушивая ненужное, – но и о том, какие темы и оценки представляются информаторам запретными, они выводят в слова еще не объявленные публично вещи.
19 июля 1926 года датировано донесение (агентурно-осведомительная сводка) начальнику 5‑го отделения СО ОГПУ тов. Т. Д. Дерибасу, в котором сообщалось:
По поводу готовящейся к постановке пьесы «Белая гвардия» Булгакова, репетиции которой уже идут в Художественном театре, в литературных кругах высказывается большое удивление, что пьеса эта пропущена реперткомом, т. к. она имеет определенный и недвусмысленный белогвардейский дух.
По отзывам людей, слышавших эту пьесу, можно считать, что пьеса как художествен. произведение довольно сильна и своими сильными и выпукло сделанными сценами имеет определенную цель вызвать сочувствие по адресу боровшихся за свое дело белых73.
Борьба вокруг спектакля будет идти вплоть до последних предпремьерных дней. Вот события (конечно, не все), произошедшие лишь в течение одной недели сентября 1926 года.
17 сентября после репетиции проходит заседание Главреперткома, на котором председательствует П. И. Лебедев-Полянский, выступают критики В. Блюм и А. Орлинский, присутствуют пять сотрудников ЦК ВКП(б). После вынесенного ими вердикта генеральная репетиция, назначенная на 19 сентября, отменяется.
Сохранена внутренняя, то есть закрытая от посторонних глаз рецензия профессионала, многообещающего драматурга Малого театра Б. Ромашова, который писал:
«Дни Турбиных» пытаются дать «эпическое полотно» эпохи гражданской войны <…> но вместо эпического полотна перед зрителем ряд несвязанных эпизодов <…> Автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину, в розовых, уютных красках рисуя ее «героев» <…> Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой <…> И все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное ведение диалога, истерия и т. п. производят впечатление на публику74.
22 сентября насыщенный и трудный день: проходит фотографическая съемка участников спектакля в гриме и костюмах, на которую автор, по-видимому, приходит после допроса в ОГПУ. После майского обыска и конфискации машинописей «Собачьего сердца» и дневника писателя под выразительным названием «Под пятой» – это второй прямой контакт Булгакова со всеведущей и всесильной организацией. И можно предположить, что неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы спектакль не был выпущен.
Протокол допроса сохранен, и это поразительный документ, в полной мере выявивший интонацию, с которой Булгаков будет разговаривать с властями и впредь: откровенность и прямота. Среди прочего Булгаков сообщает, что
в своих произведениях <…> проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России. <…> Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением.
Следующая ниже приписка дополняет сказанное:
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для меня (я – сатирик)75.
Можно попытаться представить, что чувствовал и думал молодой 24-летний следователь С. Г. Гендин76, выслушивая и записывая эти откровения. Уж не испытывал ли сочувствие к допрашиваемому литератору?
23 сентября проходит общественный показ – «полная генеральная с публикой»77. Спектакль, готовый к выпуску, смотрят представители Главреперткома, режиссерское управление, Высший совет и правительство (список приглашенных Станиславскому помогал составить Мейерхольд, более искушенный в царедворских тонкостях). Неожиданностью стало то, что была прислана еще и специальная комиссия, «которая отмечала, как отдельные моменты воспринимаются публикой. В результате появилась интереснейшая запись»78. Ни состав и назначение комиссии, ни ее «интереснейшая запись», к сожалению, неизвестны. А на следующий день, 24 сентября, в коллегию Наркомпроса под грифом «Срочно» отправлена бумага из ОГПУ.
Пьеса Булгакова «Семья Турбиных» («Белая гвардия»), поставленная МХАТом и дважды запрещенная Главным Репертуарным Комитетом, 23/1X с. г. была поставлена в третий раз с некоторыми изменениями.
Ввиду того, что эти изменения не меняют основной идеи пьесы – идеализации белого офицерства, – ОГПУ категорически возражает против ее постановки79.
Экстренное закрытое заседание коллегии собирается в тот же день. Хотя в протоколе № 48 пьеса названа скользкой, все же позволено ее играть в текущем сезоне,
сделав купюры по указанию Главреперткома. <…> Настоящее постановление сообщить Секретариату ЦК партии, Агитпропу ЦК партии, ЦК комсомола, Культотделу ВЦСПС, в Секретариат Председателя Совнаркома т. Рыкова и Председателю Малого Совнаркома т. Богуславскому80.
25 сентября в «Нашей газете» публикуется официальное сообщение о разрешении спектакля81. А 27 сентября А. В. Луначарский отправляет почтотелеграмму А. И. Рыкову.
Дорогой Алексей Иванович. На заседании коллегии Наркомпроса с участием Реперткома, в том числе и ГПУ, решено было разрешить пьесу Булгакова только одному Художественному театру и только на этот сезон. <…>
В субботу вечером (25 сентября. – В. Г.) ГПУ известило Наркомпрос, что оно запрещает пьесу. Необходимо рассмотреть этот вопрос в высшей инстанции либо подтвердить решение коллегии Наркомпроса, ставшее уже известным. Отмена решения коллегии Наркомпроса ГПУ является крайне нежелательной и даже скандальной82.
Итак, Наркомпрос разрешает спектакль, ГПУ его запрещает. Сам же факт участия сотрудников ГПУ в заседании по поводу репертуара театра воспринимается, по-видимому, как обычный.
30 сентября проходит заседание «высшей инстанции» – Политбюро, на котором 12‑м пунктом повестки стоит: «О пьесе». Докладчик – А. В. Луначарский, содокладчики – Менжинский и Кнорин83. Решено «не отменять постановление коллегии НКПроса о пьесе Булгакова»84. Подлинник протокола подписан В. М. Молотовым.
Наркому просвещения оппонируют глава ОГПУ и сотрудник Агитпропа. Вот кто определяет теперь художественную политику и имена на театральной афише.
Скандала было решено избежать, и выпуск спектакля не отменили.
Для МХАТа было важно и обретение полноценной пьесы с живыми и (еще) узнаваемыми персонажами, и выход на подмостки театральной смены старой гвардии – нового поколения молодых актеров. Для Главреперткома как инструмента цензуры, набирающего силу и выверяющего движение по партийным установкам, важна безусловная идеологическая чистота: близится 10-летие Октябрьского переворота, власть Советов, народная власть отошла в прошлое, у руля государства – партийные органы85. Стало быть, они и определяют в том числе и обновляющийся театральный репертуар.
С этого момента критические и театральные дискуссии о произведениях Булгакова и личности автора перемещаются на иной, государственный уровень. Теперь в дело вступают высшие власти – не только Наркомпрос, ОГПУ, но и Политбюро (кажется, о пьесе Булгакова знает каждый его член). Высказываются В. М. Молотов и Я. Э. Рудзутак, А. А. Сольц и В. В. Шмидт. Так, отвечая на анкету «Красной газеты» сразу после премьеры, высокие партийные работники и члены правительства говорят о «Днях Турбиных» вполне благожелательно. Заместитель председателя Совнаркома Рудзутак полагает, что «никакой контрреволюционности нет» и «снимать со сцены не следует». Шмидт (народный комиссар труда) отметил «художественную безукоризненность постановки»86.
Это весомый аргумент в пользу утверждения авторитетности (и, страшно сказать, влиятельности) нового писательского имени.
А Вс. Иванов напишет Горькому в Сорренто:
«Белую гвардию» разрешили. Я полагаю, пройдет она месяца три. А потом ее снимут. Пьеса бередит совесть, а это жестоко. И хорошо ли, не знаю87.
Комментарий поразителен: драматург, чья пьеса «Бронепоезд 14-69» год спустя выйдет на подмостки МХАТа, не уверен в правильности апелляции к совести, видимо, полагая, что можно как-то обойтись и без нее.
Премьера прошла 5 октября.
…Бесшумно раздвигался занавес, и люди из зрительного зала будто попадали в гостиную Турбиных. В теплой комнате на сцене зажигался камин и играли блики живого огня, вызванивали менуэт Боккерини часы, негромко звякали чашки. Друзья турбинского дома рассаживались за столом. И зритель благодарно узнавал, припоминал ту, в общем-то, уже несуществующую жизнь с обязательной скатертью на столе и привычно поблескивающим боком рояля. Кремовые шторы гостиной превращались в символ одного из двух грандиозных чувств, состояний человека. Уют и неуют. Холод и тепло. Свет и тьма. Вьюга – и огонь в камине. Пушки (грохот) – и менуэт старинных часов с пастушками. Зима – и алые розы на скатерти. Смерть, подстерегающая на улице – и вино, песня, любовь. Нежность к Дому как бытию человека, пристанищу его души. Сценические реалии Художественного театра в спектакле означали много больше, чем просто обжитую повседневность, – они возвращали, подтверждали одухотворенную осмысленность жизни. Некоторым даже показалось, что «основной подкупающей силой „Дней Турбиных“ оказался не сюжет пьесы, а ее оформление в МХАТе 1‑м, прочувствованная игра актеров, мягкость красок бытового реализма…»88
Один из тех, кто видел первые спектакли, вспоминал спустя более чем полвека: «Я еще те представления видел, когда на сцене „Боже, царя храни“ пели. – Ну, и как в зале реагировали на спектакль? – Ну, все заколдованные были!»89
Пьеса рассказывала о двух месяцах страшных событий, пронесшихся на Украине, какими их видела одна из множества киевских интеллигентных семей и ее друзья. Обостряло фабулу то, что описывалась ситуация Гражданской войны в многострадальном городе, власти в котором сменились за год свыше десятка раз. Белая армия и войско Петлюры, немцы, гетман, большевики – было от чего закружиться головам обывателей.
Герои булгаковской пьесы не служат в армии Краснова или Деникина, они все еще русские, российские офицеры, брошенные командирами и вынужденные самостоятельно принимать решение, с кем быть90. Тот, кому присягали, – расстрелян. Гетман оказался слаб, национальная идея скомпрометирована. Большевики неприемлемы – но Россия принадлежит им. Люди чести и верности, люди, привыкшие к приказам, должны начать собственное, личное самоопределение вне строя и исчезнувшей субординации. Вот, собственно, о чем шла речь.
Семейная пьеса со спорами 1919 года о том, с кем идти дальше русским офицерам, друзьям, застигнутым революцией и Гражданской войной врасплох, поразила публику тем, что люди пытаются объяснить свой выбор в домашних словесных столкновениях – без перестрелки. Они слушают и слышат друг друга, даже не соглашаясь с решением, принятым собеседником.
И именно миролюбие, дружественность вызвали у части общественности гневный протест, даже агрессию.
Несколько забегая вперед, приведем выступление Маркова:
Художественный театр в военных Турбиных, по существу, читал повесть о штатских Турбиных <…> как бы давал отчет в том психологическом перерождении, которое совершалось внутри интеллигенции. В этом был исторический смысл спектакля91.
После премьеры «Дней Турбиных» поднялась волна газетно-журнальных реакций. Первые отзывы о пьесе (писали именно о тексте и сочинителе – не об актерской игре или режиссуре) появились вечером того же дня.
На страницах «Комсомольской правды» сорок комсомольцев (вряд ли побывавших на премьере) выразили возмущение спектаклем.
А. Орлинский сообщил, что «Дни Турбиных» не что иное, как «политическая демонстрация, в которой Булгаков перемигивается с остатками белогвардейщины»92. В. Блюм напомнил о том, что «хитрая пьеса скрывает не только то, что у Турбиных есть прислуга и денщики, но и апологию шовинизма»93.
А. Безыменский был прост и груб: «Я ничего не говорю против автора пьесы Булгакова, который чем был, тем и останется: новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы»94.
Вновь Орлинский: «Против булгаковщины»95. В. Плетнев: «Мы будем вести классовую борьбу – и не будем пугаться этого слова – гражданскую войну в театре»96. Орлинский в статье «Гражданская война на сцене МХАТ» призывает «дать отпор булгаковщине» и заявляет, что «классовая борьба в театре – это реальность, которую отрицать невозможно»97.
Рассматривая рецепцию творчества Булгакова в 1920–1930‑е годы, приходится писать не о художественной стороне произведений, композиции спектаклей и находках в актерских работах, а об общественно-политических напряжениях. Что волновало, задевало рецензентов, пишущих о театральной премьере? Не «черные усики» Хмелева, женственная притягательность Соколовой или обаятельная инфантильность Яншина. Протест вызывали ноты на рояле, семейный уют и дружественные человеческие привязанности поверх идеологических расхождений. Со знаком плюс виделся в то время разрушенный быт, необжитое жилье, за безбытностью вставало и забвение родственных связей. Государство разрушало человеческие связи, делая каждого беззащитным, одиноким и не могущим противостоять диктату революционной идеи. Задачи государства – пятилетки, индустриализации – отменяли проблемы и сущность частных жизней. Жизнь каждого становилась неважной, превращалась в средство, утрачивала самоценность. Другими словами, политической пьесу делали не события фабулы, но система ценностей автора, конституирующая текст. Образ мира, явленный Булгаковым, притягивал зрителей.
Спустя десять дней после премьеры, когда прошло всего-то три-четыре представления «Турбиных», уже существует некая «булгаковщина», против которой необходимо вести ни много ни мало гражданскую войну. Градус обвинений драматурга все повышается. В. Блюм пишет о «героике белой гвардии» как «зародыше российского фашизма»98. Обвинения автора во всех смертных грехах, вплоть до «фашистских устремлений», были нелепы, но опасны.
Серьезные, страшные обвинения в адрес автора – «фашист», «шовинист», – строго говоря, к реальному значению этих слов отношения не имели. О фашизме в газетах писали с 1923 года – и об итальянском, с Муссолини, и о зарождающемся германском национал-социализме. Что за «фашизм» пугал критиков в нэповской России середины 1920‑х, объяснить вряд ли кто-то мог. Но даже опустошенные, освобожденные от конкретного содержания слова-жупелы имели значение. Они придавали некую зловещую, пугающую окраску фигуре драматурга, чью пьесу могли увидеть только жители Москвы и лишь в одном театре, – а газеты читали во всех городах страны. И обвинения Булгакова в шовинизме (то есть противостоянии провозглашенному СССР пролетарскому интернационализму) многими могли, по-видимому, приниматься на веру.
Работая с обильным газетно-журнальным материалом, невозможно составить представление о спектакле как феномене театрального искусства. Никто из рецензентов не писал ни об актерской игре, ни о режиссерских мизансценах, ни о декорациях и музыкально-шумовом оформлении (за исключением звуков «Интернационала» в финале, которые, по предложению И. Судакова, должны не утихать, а усиливаться) – ключевых элементах зрелища99.
Цель критических выступлений находилась не в описании и анализе художественных удач и промахов спектакля, а лишь в выявлении неверной направленности и этой пьесы, и творчества Булгакова в целом, оцениваемого как не лояльного советской власти.
На этом устрашающем фоне упреки в «интеллигентском мировоззрении», мещанстве выглядели мирно и даже утешительно, – например, когда снисходительно отмечали чрезмерную сосредоточенность актеров на «моментах „интимно-семейных“ переживаний»100. Либо сообщали, что
Идеология «Дней Турбиных» – это типичная идеология старого чеховского мещанина, 100% обывателя. Его символ веры – кремовые шторы и весь уют. Турбины и турбинствующие – пошляки, ненужные люди101.
Удачно найденная Э. Бескиным формула о кремовых шторах как символе пошлости стала расхожей, вошла в анналы. Нерв спектакля был определен и, казалось, обесценен.
Параллельно печатной критической кампании продолжались публичные общественные споры102. Диспуты в связи с «Днями Турбиных» и «Любовью Яровой» продолжались еще в 1928 году, театральная Москва не успокаивалась, критики не умолкали. Многажды выступал Луначарский. Читая доклады, давая интервью и участвуя в диспутах, он кардинальным образом менял оценку пьесы и автора, похоже, что пьеса и спектакль не отпускали его. 4 октября 1926 года, выступая с докладом в Коммунистической академии, он говорил, что пьеса «идеологически не выдержана» и «политически неверна»103. Через три дня, срываясь в грубость, заявлял, что Булгакову нравится «атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля»104.
Как это обычно и происходит, не самые талантливые участники боев за столичные подмостки проявляли творческое начало в изобретении все новых и новых, порой самых неожиданных параллелей и ассоциаций, долженствующих уничтожить конкурента.
Орлинский, который, кажется, не упускал ни одной возможности высказаться, на диспуте сообщил, что «МХАТ, обладающий таким большим мастерством, попадает вместе с пошляком-Булгаковым в лужу»105.