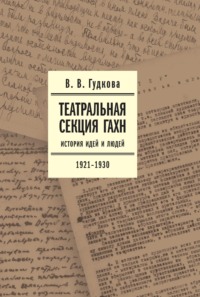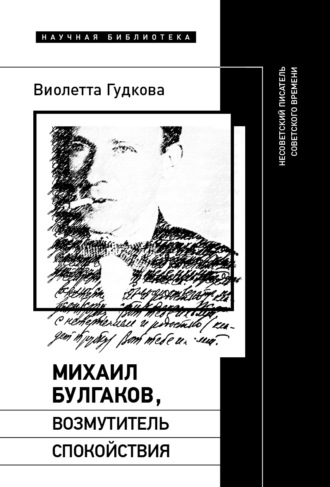
Полная версия
Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени

Виолетта Гудкова
Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени
Москва Новое литературное обозрение 2025
УДК 821.161.1(092)Булгаков М.А.
ББК 83.3(2=411.2)6-8Булгаков М.А.
Г93
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Научное приложение. Вып. CCLXXIX
Виолетта Гудкова
Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия: Несоветский писатель советского времени / Виолетта Гудкова. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
Уже более ста лет произведения М. Булгакова не просто присутствуют в литературной и историко-культурной жизни страны – они продолжают вызывать бурные споры во всем мире. Книга Виолетты Гудковой – это попытка проследить историю рецепции булгаковских текстов в России от раннего этапа его творческой карьеры и до первых десятилетий XXI века. Автор сводит воедино самые разные интерпретации творчества М. Булгакова, анализируя, как менялись оценки его произведений литературными и театральными критиками на протяжении рассматриваемого времени, что писали об авторе «Мастера и Маргариты» современники в письмах и дневниках, каковы были режиссерские задачи при постановке булгаковских пьес и реакция зрителей на них, что в текстах автора не устраивало цензуру. Завершается книга тремя главами общего характера, в которых реконструируется последовательность публикаций наследия писателя, существенные трансформации его образа, происходившие в 1970–2000‑е, и ряд размышлений о поэтике Булгакова. Виолетта Гудкова – историк театра, литературовед, текстолог, ведущий научный сотрудник отдела театра Государственного института искусствознания, автор вышедших в «НЛО» книг «Юрий Олеша и Вс. Мейерхольд в работе над спектаклем „Список благодеяний“», «Забытые пьесы», «Театральная секция ГАХН» и «Рождение советских сюжетов».
ISBN 978-5-4448-2831-1
© В. В. Гудкова, Государственный институт искусствознания, 2025 © С. Тихонов, дизайн обложки, 2025 © OOO «Новое литературное обозрение», 2025
К читателю
Ну вот, еще одна книга о Булгакове. И автор хорошо понимает, что «пьес уж довольно написано», как справедливо замечено тетушкой Ивана Васильевича из «Записок покойника».
Задача этой книги проста: проследить, как менялось в России восприятие произведений М. А. Булгакова начиная с первых его шагов по литературному пути и до начала XXI века. Попытаться показать, что актуальность его произведений не исчезает, а в различные времена лишь наливается новыми смыслами, проявляя оттенки, которые не прочитывались прежде.
Необходимо уточнить: восприятие – кем? Соединены два русла: художественное (театр) – и аналитическое (литературоведение), как правило, рассматривающиеся порознь. В каждой главе рассказывается, что вычитывал из Булгакова театр, как спектакли интерпретировала критика – и что за идеи предлагали литературоведы. И не менее важный вопрос: слышали ли гуманитарии разных отраслей друг друга? Хотелось понять, как литературоведческие интерпретации опережают театральные (или наоборот), сплетаются с ними и на них опираются, вступают друг с другом в спор – либо просто протекают двумя параллельными и не пересекающимися, неизвестными одно другому ответвлениями гуманитарного знания и художественного творчества.
Работа основана на фундаменте освоенного ранее, ее смысл заключается в попытке перемены видения знакомых текстов, идей, представлений. Любое существенное обновление ракурсов прочтения наследия известного писателя связано либо с накоплением и расширением источниковедческого материала, либо со сменой историко-культурной ситуации в обществе, дающей новую точку зрения в интерпретации старых текстов. Представляется, что сегодняшний день соединил и то и другое.
Прежде всего, в последние годы основательно пополнилась фактологическая база: текстологические исследования Е. Ю. Колышевой, новые книги, от А. Н. Варламова и О. Я. Поволоцкой до О. Е. Этингоф и М. В. Мишуровской, публикация архивистами ФСК (ФСБ) агентурных сводок о писателе и, наконец, массив информации, представленный в томах фундаментального библиографического Указателя произведений Булгакова и отзывов о них.
Рассказ о том, как менялось видение булгаковского творчества за такой длительный временной отрезок (столетие), делает неизбежным некоторую пунктирность повествования: крупный план всего заслуживающего внимания материала попросту невозможен. Работа, безусловно, не «энциклопедична»: немыслимо собрать под одной обложкой рассказы о всех статьях и книгах, всех спектаклях за минувшее столетие. Их выбор связан с движением общественной мысли о Булгакове.
Выработка целостного знания о том, как именно шла рецепция творчества М. А. Булгакова советским и постсоветским литературоведением, театроведением и театральной режиссурой, невозможна без проверки и уточнения устоявшихся концепций и предложения новых исследовательских гипотез.
Наследие Булгакова изучается более полувека. За это время количество монографий и статей выросло до масштаба, по-видимому, уже не поддающегося исчислению. Литература о Булгакове огромна, овладеть ею во всей ее полноте почти невозможно. Первооткрыватели, авторы ключевых, опорных работ забываются, и дело не в том, что исчезают имена предшественников, а в том, что искажается процесс узнавания, время уплощается, все совершается сегодня, вчерашний же день тонет в тумане неопределенности и беспамятства. И кажется важным рассказать об одном (на фоне всемирного интереса к Булгакову небольшом, но существенном) фрагменте изучения его творчества: о российском булгаковедении и освоении произведений писателя отечественным театром.
Стоит предупредить о том, что, несмотря на стремление пишущего оставаться в рамках академического анализа, субъективизм повествования, проявляющийся и в структуре работы, и в отборе событий, фактов, оценок и проч., – нескрываем.
К тому же фигура автора временами раздваивается: на театрального либо литературного критика – и исследователя. Было бы странным и неестественным, даже фальшивым пытаться делать вид, что «меня тут не стояло» в 1970–1980‑е годы, время идеологических драк за наследие писателя, за то, чтобы оно наконец встретилось с читателем – пусть и не тем, для которого все создавалось в 1920–1930‑е годы. Десятки статей, написанных и опубликованных автором, так или иначе включены в повествование. И в книге приходится выступать и как свидетелю, очевидцу, активному участнику событий, и как историку литературы и театра, стремящемуся «держать дистанцию» в размышлениях о творчестве писателя.
Начать было естественным с напоминания о реакциях и отзывах современников – как тех, кто публиковал статьи и рецензии на газетно-журнальных полосах и в книгах, так и тех, кто на долгие десятилетия был этой возможности лишен. Работа предлагает вспомнить, как читали и смотрели на театральных подмостках вещи Булгакова, что писали и печатали о нем и его произведениях отечественные критики нескольких поколений – и что оставалось в дневниках и частных письмах. Как спорили по поводу трактовок давно, казалось бы, известных его вещей и как сменялись их оценки.
Только представим себе диапазон людей, высоко ценивших творчество Булгакова: от К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, А. Я. Таирова, А. Белого и М. Волошина до Г. А. Товстоногова, Ю. П. Любимова, А. И. Солженицына и М. М. Жванецкого, то есть от ключевых фигур отечественной сцены и символистов Серебряного века до тех, кто отыскивал новые пути в театре и литературе XX и даже XXI века.
В ходе работы замысел усложнялся, нельзя было не понимать, что необходимо обрисовать хотя бы в общих чертах (но опираясь на выразительные факты) и историко-культурный контекст существования булгаковского наследия. Предельно сжатый по условиям работы, он тем не менее – один из существенных элементов повествования.
Несколько слов о структуре книги.
Открывает ее глава общего характера, где рассказывается, как быстро сложилась репутация молодого литератора и каким весомым художественным авторитетом он обладал уже к середине 1920‑х годов. Это значит, что привычные представления о Булгакове преимущественно как «жертве травли» не просто корректируются, но резко меняются.
Затем идут четыре главы о трех московских спектаклях: «Днях Турбиных», «Зойкиной квартире», «Багровом острове» – и спорах вокруг так и не поставленного «Бега».
Следующее десятилетие, 1930‑е годы, – время запрещения всех пьес и репетиций спектаклей. И главы выстроены по-иному: год за годом рассматривается меняющаяся ситуация вокруг.
1940‑е – уход писателя и начало истории «жизни после смерти». 1950‑е – медленное возвращение на российскую сцену «Дней Турбиных» и первые литературоведческие статьи. 1960‑е – начало публикаций пьес, выход к читателю «Записок покойника», а во второй половине десятилетия – «Мастера и Маргариты». В 1970–1980‑е разгорается нешуточная борьба за присвоение имени и авторитета писателя различными общественно-политическими группами литературных критиков, полярным образом трактующих и биографию автора, и его сочинения. Десятилетие 1980‑х – пик освоения булгаковского наследия. На сценах страны идут, кажется, все его вещи, ставятся не только пьесы, но и проза, от «Морфия», «Роковых яиц» и «Собачьего сердца» до «Записок покойника» и «Мастера и Маргариты». Это приводит к возможности размышления о новаторской поэтике Булгакова, для которого драматургия и проза воспринимались «как левая и правая рука пианиста».
Столетний юбилей (1991) и особенности его празднования сообщают о канонизации нового имени – и некотором охлаждении интереса к нему. Хотя в начале 1990‑х к зрителям выходят первые спектакли по только что опубликованным пьесам «Адам и Ева» и «Багровый остров», проявившие не ушедшую актуальность старых вещей.
2000‑е свидетельствуют об утрате интереса режиссуры к отечественной истории. В литературоведении оригинальные идеи и концепции уступают место тотальному комментарию.
В 2010‑е появляются принципиальной важности исследования литературоведов. Два русла гуманитарного знания, литературоведение и театральная критика, могут взаимодействовать, объясняя творческие открытия автора, подталкивая сцену к новому пониманию человека в мире. Но этого не происходит. Часть режиссеров и исследователей будто живут в разных исторических временах. А театральные работы, кажется, вовсе освобождены от булгаковских текстов и смыслов.
Завершают книгу три главы общего характера. Рассказ о рецепции булгаковского творчества на протяжении века дополняет еще и последовательность (порядок) публикаций наследия писателя, существенные трансформации его образа, происходившие в 1970–2000‑е, наконец, некоторые размышления о поэтике Булгакова.
Надо сказать и об особенностях комментирования.
Ранее комментатор, знаток, эксперт делился знанием, принадлежащим ему одному, посвящая обычного, не слишком осведомленного об историко-культурном контексте читателя в детали, скрытые в художественном произведении, рассказывая неизвестные тому факты, и тем самым углублял прочтение текста. В годы, когда собственно историческое знание было запретным, полузапретным, частично запретным, комментарии прочитывались с неменьшим интересом, нежели само произведение (как это происходило в годы перестройки, когда публикаторский бум, приведший к широкому читателю десятки запрещенных сочинений 1920–1930‑х и более поздних лет, потребовал прояснения исторического фона).
За последние десятилетия в работе комментаторов произошли принципиальные изменения – по разным причинам. Комментирование, предоставляющее информацию, которая уточняет, расширяет понимание комментируемого текста, в 1960‑е годы было одним, в восьмидесятые – иным. С появлением огромного массива легкодоступной информации в интернете – третьим. Ясность задачи начала уходить. Если в 1980‑е много писали о личностях публицистов, вершащих суд над нелояльными писателями сталинской поры, то в 2000–2010‑е повторять их характеристики стало излишним. Имена Л. Авербаха, В. Блюма, В. Киршона, А. Орлинского, Р. Пикеля, кажется, известны всем. Академическое правило комментировать все без исключения фамилии, организации, события теперь кажется избыточным, так как при появлении вопроса достаточно один-два раза кликнуть в интернете, чтобы получить ответ. Поэтому автор считает полезным рассказать о фигурах, остававшихся в тени (как не самые известные в стране режиссеры, создавшие важные спектакли, драматурги третьего ряда, чьи сочинения ярко обозначили тенденцию, либо следователи ОГПУ, проводившие допросы Булгакова), уделяя меньше внимания известным публичным лицам.
Сегодня, кажется, резко сменился адресат книг. Трудно угадать (предположить), что именно в новом тексте окажется ему неизвестным либо непонятным. Частые перемены и изъятия из школьных программ и лежащее в руинах гуманитарное образование обнажило разлившееся невежество не только школьников, но и студентов.
Отсылки к источникам необходимы для выстраивания системы аргументации, это фундамент работы. Но излишние сноски, разъясняющие частности, необязательные для развития мысли, тормозят чтение, рассредоточивая внимание читающего. Цель работы – опираясь на уже сделанное раньше, рассказать о новом. Ведь «есть же еще и другие книги», по афористическому замечанию профессионального редактора Л. А. Пичхадзе.
Самая приятная часть вступления – назвать тех, кто помогал автору в работе. Традиционная (многолетняя) признательность сотрудникам научной библиотеки СТД РФ, а также дружелюбному и компетентному коллективу РГБИ.
Моя искренняя и глубокая признательность за возможность заинтересованных обсуждений работы на международных конференциях в РГБИ, РГГУ, музее Булгакова. Коллегам по отделу театра Института искусствознания – В. В. Иванову, Л. М. Стариковой – за высказанные ими замечания и соображения. Во время работы всегда нужны слова одобрения и поддержки. Но безусловно, я благодарна и тем, кто не скрывал своего скепсиса по поводу данной работы: их критические суждения способствовали продуманности моих умозаключений и формулировок. Как сказано умудренным автором (в булгаковских «Записках покойника»), «…решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликоспастову».
Работа над книгой была сопряжена с трудными этическими вопросами.
Многие из любимых коллег ушли из жизни. Нет и некоторых, скажу аккуратно, оппонентов. И сложна, и мучительна проблема – как говорить и спорить с теми, кто уже не сможет ответить. Но восстанавливая историю развития отечественного булгаковедения, необходимо сказать о значимых книгах и статьях, даже и в тех нередких случаях, когда ты с ними не согласен. Умолчание страшнее – ведь мы живем столько, сколько читают наши книги.
Scripta manent – написанное остается.
Первые отзывы о писателе
Резкость и ясность. Рождение репутации. 1923–1927
Когда в 1966–1967 годах читатели журнала «Москва» прочли роман «Мастер и Маргарита», впечатление было ошеломляющим. Никому не ведомое, таинственное, как Лохнесское чудовище, всплыло из небытия совершенно новое – как показалось большинству – литературное имя. Были живы знавшие его люди, были живы женщины, бывшие его женами, о нем, безусловно, слышали в писательских и театральных кругах. Но знание это, не выраженное печатно, не обладало общественной значимостью, оставалось личным, приватным делом отдельных людей. Мое поколение – узнавало нового автора.
Будто бы от нуля начиналось и изучение булгаковского наследия. Но широко распространенное мнение, что литераторы и критики заметили и оценили Булгакова только в десятилетие 1970‑х, неверно.
Уже после первых его шагов по литературной стезе, в 1923 году, писали: «Этот еще молодой, но выдающийся писатель до сих пор не получил должной оценки и признания»1.
…Энергичная, взвихренная и драматическая «Дьяволиада» (слово приживется, войдет в устную речь современников) расскажет о сумбуре недавних месяцев военного коммунизма, их пугающей неустойчивости. Повесть 1924 года поразит резкостью фокуса писательского взгляда, ясностью диагноза: это «действительность, которая бредит». Определенность формулы станет свидетельством того, что рассказчику известна (и он о ней помнит) иная, нормальная жизнь.
Москва начала 1920‑х, Москва донэповская, с галопирующей инфляцией, разрушенностью прежнего уклада и тотальной неуверенностью в завтрашнем дне, станет понятнее, когда мы сами переживем нечто подобное в 1990‑х. Главный герой «Дьяволиады», «тихий блондин Коротков», одиннадцать месяцев прослуживший в непонятно для чего существующем учреждении (Спимате), не выдержав повседневного абсурда и немыслимых мельканий «раздвоенного» начальника (человек со странной фамилией Кальсонер имеет брата-близнеца, о чем Коротков знать не может), бросается с крыши московской высотки с предсмертным возгласом: «Лучше смерть, чем позор!»
Отзовется о повести Евг. Замятин, заметив, что «Дьяволиада» – «единственное модерное ископаемое в „Недрах“», и с поразительной меткостью определит необычность вещи: «фантастика, корнями врастающая в быт»2.
О «Дьяволиаде» одобрительно отозвались теоретик литературы В. Ф. Переверзев3 и критик В. П. Правдухин4, отметив влияние на автора Гоголя и Достоевского. Сразу же были выявлены принципиально важные вещи: бесспорность и значительность таланта – и традиции, которым следует Булгаков, имена учителей.
Критикой с легкостью были определены корни булгаковского творчества. То, что позднее приходилось вычленять при известном умственном усилии, тогда, насколько можно судить, было видно невооруженным глазом. Так, рецензент «Нового мира» писал в связи со следующей повестью – «Роковые яйца»: «Булгаков стоит особняком в нашей сегодняшней литературе, его не с кем сравнивать. Разложить его творчество – нетрудно. Нетрудно проследить и его генеалогию»5 (а чуть выше назывались имена Гоголя, Гофмана, Достоевского). Внимательный Юрий Соболев подтверждал, что в «Дьяволиаде» автор «обнаружил любопытнейшее сочетание Гофмана с весьма современным Гоголем»6.
Но в общем для критики «Дьяволиада» прошла сравнительно незамеченной. Уже после появления следующей вещи ситуация изменилась.
В «Роковых яйцах» из разлитого в реальности бреда и какофонии послереволюционного быта начинают проступать типы и типовые поступки. Повесть организует вполне реалистический сюжет с убедительной конкретикой деталей: в Советской республике случился куриный мор, что представляется более чем возможным на фоне недавно окончившейся Гражданской войны и ее еще не преодоленных последствий. Необходимо как можно быстрее восстановить куриное поголовье. Отыскивается вполне практический способ: выписать здоровые яйца из‑за границы. Вся беда в том, что берется за это, кажется, нехитрое дело недавно назначенный директором совхоза Рокк, вчерашний комиссар в кожанке, спутавший яйца змей, крокодилов и страусов – с куриными. Последствия ошибки окажутся катастрофическими.
Используя открытие ученого, профессора Персикова, – волшебный «красный луч», ускоряющий развитие живых организмов, укрупняющий их, но при этом сообщающий тем невиданную агрессивность и злобу, – Рокк облучает партию экзотических яиц. Гигантские твари опустошают деревню и идут на Москву.
Любопытны два фабульных поворота фантастической повести: то, что сам Рокк останется в живых благодаря флейте, на которой он играл в далекой прежней жизни, то есть там, где бессильными окажутся револьверы, пулеметы и бронемашины, спасет искусство («культура»). И второе: после гибели профессора Персикова вновь уловить таинственный луч не удастся никому.
В «Роковых яйцах» появляется и тема ВЧК – ОГПУ: профессора Персикова и его открытие охраняют «котелки» с таинственным знаком на отвороте пиджака. Тема не была свободной для изображения, настораживала (если речь не шла о панегирическом воспевании вроде поэмы А. Безыменского о Дзержинском («Феликс») либо погодинской пьесы «Аристократы»). Критик, скрывшийся за инициалами, писал в связи с «Роковыми яйцами»:
Два слова об идеологии. Верное средство быть обвиненным в контрреволюции – вывести, хоть на минутку, в своем произведении чекиста. Обязательно найдется ретивый рецензент, пожелавший встать в позу прокурора7.
Предупреждение об опасности самоуверенного невежества и мысль о том, что человек уникален и незаменимые люди есть, вкупе с невинным, в общем-то, упоминанием о цвете коварного луча приводит критику к далеко идущим выводам. И вскоре зазвучат прокурорские интонации.
Критики поляризуются. Хотя кому-то (как Н. Осинскому) покажется, что это всего лишь «вагонное чтение»8, легкий пустячок, а Горький высоко оценит повесть, с некоторым даже простодушием посетовав, что «поход пресмыкающихся на Москву не использован»9, многие увидят в «пустячке» подрыв идеологических основ. Неудачный опыт несведущего в биологии Рокка будет воспринят как подозрительная и опасная аллегория: революция в России как «социальный эксперимент» была всем известной, даже расхожей метафорой.
И наконец, с завидной глубиной проникновения в сущность «Роковых яиц» о повести писал И. Гроссман-Рощин (чья чуть видоизмененная фамилия позднее будет отдана насмешливым автором пьесы «Адам и Ева» внесценическому персонажу Марьину-Рощину, конъюнктурному сочинителю романа «Красные зеленя», в названии которого иронически проявится нелепость названия известного литературно-художественного журнала «Красная нива»).
Гроссман-Рощин вовсе не склонен рассматривать повесть как шутку, бездумную шалость, пробу пера. С сугубой серьезностью вчитываясь в нее, рецензент видит глубинный смысл остроумной сюжетной выдумки:
В повести царит ощущение ужаса, тревоги. Над людьми, над их жизнью будто тяготеет рок. И дело вовсе не в ужасе самой темы: нашествие гадов, мор, смерть. Нет. Дело не в теме. <…> Н. Булгаков (так у автора. – В. Г.) как будто говорит: вы разрушили органические скрепы жизни, вы подрываете корни бытия; вы порвали «связь времен». Мир превращен в лабораторию. Во имя спасения человечества как бы отменяется естественный порядок вещей и над всем безжалостно царит великий, но безумный, противоестественный, а потому на гибель обреченный эксперимент… Эксперимент породил враждебные силы, с которыми справиться не может. А вот естественная стихия, живая жизнь, вошедшая в свои права, положила конец великому народному несчастью10.
И. Гроссману-Рощину вторил И. Нусинов:
Политический смысл утопии ясен: революция породила таких «гадов», от которых мы спасемся только разве таким чудом, как 18-градусный мороз в августе11.
Сборник с двумя повестями – «Дьяволиадой» и «Роковыми яйцами» – весной 1925 года был запрещен. Но спустя год вновь вышел в свет. И (забегая вперед) в 1927 году Г. Горбачев, возвращаясь к разбору ранних повестей Булгакова, напишет:
И на этом фоне осмеяния новой власти <…> совершенно ясна тенденция повести о профессоре Персикове, которого большевики отлично обслуживали, когда надо было его охранять от иностранных шпионов <…> методами ГПУ, но изобретение которого, благодаря своей торопливости, невежеству, нежеланию считаться с опытом и авторитетом ученых, сделали источником не обогащения страны, а нашествия на нее всевозможных чудовищ.
Такова эта повесть, ясно говорящая о том, что <…> жгущие дома, разведшие дикий бюрократизм большевики <…> совершенно негодны для творческой мирной работы, хотя способны хорошо организовать военные победы и охрану своего железного порядка12.
В сентябре 1925 года В. В. Вересаев, литератор известный и авторитетный, обращаясь к Булгакову, писал, что хотел бы помочь ему, чтобы «сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем», и сообщал, что Горький «очень Вас заметил и ценит»13. После выхода тоненького, ценой в 10 копеек, сборника рассказов Булгакова («Трактат о жилище». М.; Л.: Земля и фабрика, 1926) рецензент отмечал, что рассказ «Псалом» отличается «тонкостью нежно-лирического рисунка», а юмор Булгакова «похож на тонкие вспышки нервических улыбок Гейне»14. О «Белой гвардии» в письме к издателю Н. С. Ангарскому отозвался М. Волошин:
Я очень пожалел, что Вы все-таки не решились напечатать «Белую гвардию», особенно после того, как прочел отрывок из нее в «России». В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи… И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной: как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского15.
Главный редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский подтвердил: «Белая гвардия» и «Роковые яйца» – вещи «выдающегося литературного качества», Булгаков – «художник чрезвычайно талантливый, с европейской, уэллсовской складкой»16.
Сохранилось свидетельство филолога и лингвиста Б. В. Горнунга об авторитетности личности молодого Булгакова для профессуры тех лет: «О двух больших фигурах и их отношении к нашему поколению надо сказать особо: это Г. Г. Шпет и М. А. Булгаков». Еще: «Вторая огромная фигура, с которой мы соприкоснулись в 1923–26 гг., – это М. А. Булгаков»17. Оценка ученого, сотрудника Государственной академии художественных наук, вобравшей в себя цвет интеллектуальной Москвы, сообщает о весе и влиянии начинающего, казалось бы, литератора, всего лишь два года назад появившегося в столице: его имя поставлено рядом с вице-президентом ГАХН философом Г. Г. Шпетом.