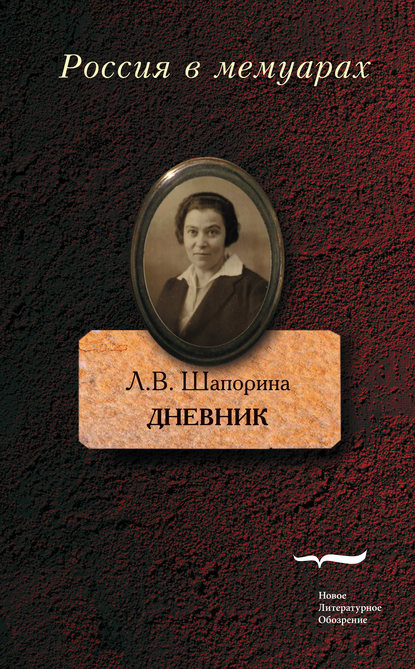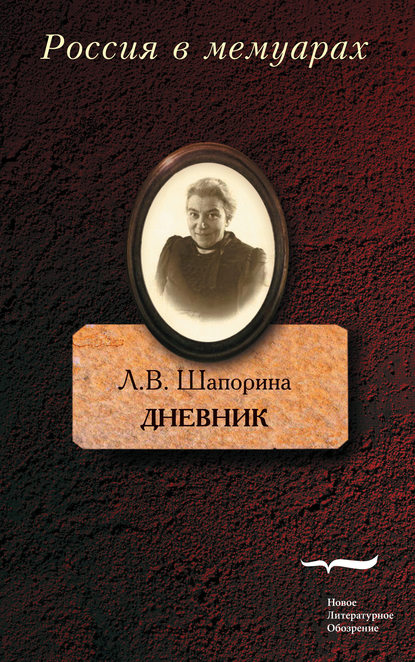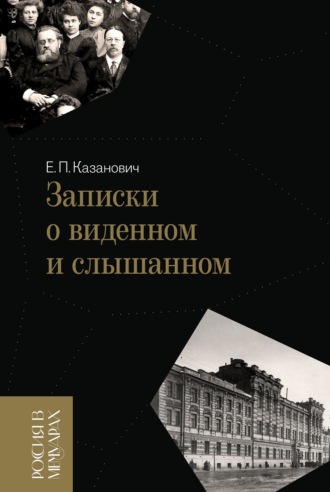
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Что же поняла я у Ремизова и ему подобных импрессионистов? (кажется, так называется этот толк в литературе).
Мало! и если я навру здесь в объяснении их, у меня будет только одно оправдание: Данилов ошибся, отыскав во мне способность к нутреному пониманию, и одно утешение: они меня не услышат и не придут в ужас от той ереси, которую я буду нести на их счет. К тому же – es irrt der Mensch, solang er strebt120, а я всей душой стремлюсь к познанию их.
Центр тяжести творчества Ремизова состоит в перенесении всего мира, со всей его органической и неорганической природой, в душу человека, героя, одного или десятка их, до того, что вне их – нет жизни. Когда они подходят к саду – появляется сад; когда они входят в комнату – воскресает комната; когда они обращают взор к месяцу или человеку – рождается месяц и человек. Отвернулись они от всего этого, потеряли в этом надобность – и оно моментально исчезает. За их спиной – ничего, абсолютное небытие. Я есть жизнь и все во мне.
Между философами существовал и еще продолжает существовать спор: есть ли бытие вне человека, т. е. реален ли внешний мир, или еще иначе: могу ли я, сидя здесь в мансарде, на даче, за 30 верст от Петербурга, могу ли я сказать наверное, что моя зимняя комната в квартире Черняков, в которой я оставила свои книги, свою скрипку, письменный стол и пр., существует сейчас со всеми этими вещами, равно как и Петербург и даже сами Черняки? Могу ли я быть уверена, что сзади меня есть еще четвертая стена моей комнаты и что эти три, которые я вижу сейчас, не исчезнут, когда я отвернусь от них?
Ремизов, должно быть, сказал бы «нет», если бы был философом, а т. к. он художник, то он и рисует нам только тот уголок, в который приходит в данный момент его герой, с теми кусочками и отрывками мыслей и ощущений, в которых герою этот уголок в данную минуту является.
У Толстого, например, мы вместе с Наташей Ростовой поглощены сейчас в то, чтобы сделать какое-то удивительное па на носке, но в то же время знаем и чувствуем, что за тремя-четырьмя стенами просыпаются и начинают лениво потягиваться и одеваться Николинька с Денисовым, с другой стороны – мать Наташи, отец ее, Соня, Петя и др., а где-то далеко, за сотни верст живет Андрей Болконский и маленькая княгиня с усиками; еще на другом конце – старый князь с княжной Марьей, у которой удивительные «лучистые» глаза; там – толстый одноглазый Кутузов, «дамский Прелестник» – Александр I с придворным штатом и Сперанским с белыми руками, – мы знаем и чувствуем, что все они живут в этот момент, хотя Наташа их не видит, о многих из них не думает сейчас, а некоторых даже вовсе не знает; живут своей жизнью независимо от Наташи, о которой тоже сейчас не вспоминают; а кроме них живет целый шумный многолюдный город, один, другой, третий, десятки, сотни городов, целое государство, целый мир.
Совсем не то у Ремизова: с глаз долой – из жизни вот. Появляясь перед глазами героя (-ев) или в его мыслях, люди и вещи как бы оживают на миг, получают через его активную волю способность к минутной жизни в нем, но по миновении этой минуты – все опять погружается в небытие. Человек один в мире – со своими мыслями, со своими представлениями, вне его – нет реального бытия. И как одиноко, как холодно в этом мире! Так себя и чувствуют его герои.
А между тем Ремизов любит людей и природу; его нежная душа с любовью останавливается на детских личиках, на старом заглохшем саде с зеленым прудом, скользит по небу, привлеченная желтой тарелкой или блестящим горбатым серпом, но он как-то не верит, что они живут так же свободно и самостоятельно, как он сам.
Когда Коля лежит под диваном и подслушивает разговор матери с Пелагеей Семеновной (ч. I, гл. 2), для него весь мир заключается в том, что видно и слышно «сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке дивана»: «пыль», которая «забирается в нос и душит» (еще бы – под диваном!), болтающаяся перед его носом нога Пелагеи Семеновны, шуршащие юбки ее на шелку, обрывки слов, высокие каблучки горничной Маши, которые без стуку ступают на пол, – и пр. И так у каждого из действующих лиц есть своя «прожженная папиросой звездочка», сквозь которую они видят мир.
Это бы еще не беда, но дело в том, что и всего в миру-то у Ремизова оказывается столько, сколько видно сквозь подобные дырочки, и это уж скверно. Сколько яркости и красоты теряет от этого мир да и сам человек, имеющий при подобном положении вещей всегда дело только с собой и с собой! Вряд ли что-нибудь может быть хуже такого общества…
Вот то, что можно сказать о внутреннем мире автора, что же касается внешней стороны произведений – то об этом мне пока судить трудно: этот род творчества так еще нов у нас, а для меня и тем более, т. к. я ничего не читала из произведений импрессионистов, что я затрудняюсь окрестить или не окрестить автора именем таланта. Одно, кажется, верно, что «Пруд» лучше «Часов», а из «Пруда» лучшее место именно эта 2‑я гл. I части – Коля под диваном. Там отчасти переданы ощущения человека, находящегося в подобном ему положении, в других же местах дело обстоит слабо. Одно ясно: несомненны попытки автора показать новое понимание нового мира и создать новый род художественного творчества, и в конце концов я думаю, что совсем лишить Ремизова таланта – нельзя, но о размерах его пока приходится (мне, по крайней мере) умолчать, а там – «поживем, увидим» (любимое выражение Маши). Надо еще почитать, хотя оно и скучновато…
Вечером. Интересные «Записки» кн. Я. Шаховского. Я, собственно, взялась за них из‑за Сумарокова, но вот я уже на половине 2‑й части, а о Сумарокове пока ни звука121.
Конечно, я не пожалела, что прочла их, если даже и дальше не встречу упоминания об «отце русского театра» (на что весьма похоже, т. к. интересы автора направлены к совсем другой области жизни); они сами по себе достаточно интересны и поучительны: желающий быть государственным мужем непременно должен обладать твердым характером, не говоря о других качествах, которые сами собой разумеются.
Сколько раз я думала о себе: какая бы деятельность мне более всего подошла, – и всегда сходилась на том, что государственная вперемешку с поэтическим (или художественным вообще) досугом. Сколько я ни засаживала себя за книгу и в отдельный от жизни кабинет ученого – я в нем не чувствовала себя дома. Я непременно должна выходить на воздух, должна толкаться между людьми, должна откликаться на их интересы. Если бы у меня был литературный талант – я с его помощью вливалась бы в жизнь и вполне удовлетворялась бы деятельностью этого рода, но до сих пор он ни в чем не проявился: ясное дело, что его нет…
И вот, что же делать, чем удовлетвориться? К сожалению – нечем…
А на каком-нибудь большом государственном посту я всегда думала, что была бы на своем месте. Там и умственная деятельность, и практическая, и возможность проявить лучшие качества своей души: благородство натуры, любовь к людям и отечеству; они есть во мне. Но я слаба: мне часто не хватало бы твердости, чтобы настоять на своем, меня можно было бы разжалобить, уговорить от исполнения своего долга, наконец, у меня не хватило бы настойчивости и терпения для борьбы с той гадостью и подлостью, которыми полна жизнь государственных людей по «Запискам»: они бы меня легко сломили, но не согнули, нет, для этого я достаточно сильна!
А как все-таки плохо, что мы не имеем права пробовать прилагать свои силы к тому, к чему чувствуем склонность. Ну, не выйду я головой для министра, так меня и не пустили бы дальше столоначальника, как сейчас не пускают дальше передней журнальной редакции, но пытаться – я должна иметь право. Свинство!
Как-то раньше я жаловалась на свою хандру и одиночество. На самом деле это вовсе не то, и последнее вовсе не плохо. Вообще – я не скучаю: я много читаю, немного гуляю и очень много думаю (и не о себе – наоборот, себя я совсем не чувствую [в] это время). Но иногда на меня находит хандра, и это уж явление болезненное. Тогда, понятно, я сосредоточена на себе и ничем не в силах занять себя, отвлечь себя от себя; все мне тягостно, все скучно и мертво. Но в то время, когда я здорова и нервы в хорошем состоянии (сегодня, например, меня рано разбудили мостовщики и я поднялась на полтора часа раньше обычного времени – и вот уже были днем легкие приступы хандры и головной боли, а завтра – если мне удастся отоспаться – наверное, все пройдет), – я не скучаю совсем. Я чувствую себя значительно способнее к творческой работе (вчера окончила «На даче у русских немцев»122) в такой обстановке, как сейчас, и если бы не скорый конец лета, я принялась бы за драму: с каждым днем фантазия расшевеливается и работает лучше и лучше, я втягиваюсь в фантастический мир образов и теней, и действительность уходит из-под ног, давая полную волю сосредоточиться на вымысле. Но – нельзя, а то экзамены ухнут в трубу…
Вот скоро поеду в Могилевскую губернию и там соберу материал для окончания «Белорусского кладбища»123.
Я чувствую, что значительно поумнела за это время, только оно, конечно, не помешало бы, если бы и сейчас приезжали по праздникам проведывать меня добрые друзья, и я сама во время приступов хандры могла бы спасаться легким рассеянием на людях, а то этак можно разучиться говорить. В будни же мне решительно никого не нужно, у меня есть чем заняться и есть над чем пораздумать.
4/VII. Вот человек, который не уменьшается и не принижается от того, что об нем узнаешь, и от того, что узнаешь об нем вообще что-нибудь за внешней официальной маской. Наоборот, с каждым своим шагом и словом он все возрастает и чем дальше, тем большее внушает к себе уважение, смешанное почти с благоговением во мне.
Я говорю об А. А. Шахматове.
Первый раз, когда я несколько лет тому назад услышала его фамилию и спросила, кто или что это такое, я услышала только: «О, Шахматов!..» или: «Как, Шахматов?!?..» – произнесенное таким голосом и такой интонацией, что я сейчас же должна была почувствовать, что спросила что-то совершенно непозволительное для грамотного человека, позорное невежество.
Среди лингвистической молодежи, которую я встречала у Левиной, я только и слышала: «Шахматов и т. д.», «Ах, Шахматов! и т. д.» и без конца «Шахматов», с самой нежной любовью и глубоким уважением упоминаемый.
Когда я из Милиных уст познакомилась с его биографией – не знаю уж, в какой мере истинной, а в какой легендарной, как и биография Христа и прочих великих пророков* – и научилась сама повторять его имя с той же интонацией, – я услышала еще новое добавление к нему. Говорили: «Шахматов и теперь не знает того, что давно уже знают все в России и за границей: что он большой талант и крупная научная величина».
Еще через несколько времени, когда был диспут Н. М. Каринского124 и Шахматов был официальным оппонентом, – М. Р. Фасмер* рассказал мне такой эпизод125. Как-то перед этим диспутом пришел Фасмер к Шахматову, и разговор, конечно, зашел о диссертации Каринского, о которой Фасмер высказал свое мнение, указав на допущенные Каринским, по его мнению, ошибки и неправильности. Шахматов на это воскликнул: «Как я рад! Значит, вы тоже заметили это. А я боялся, что, может быть, ошибаюсь сам, упрекая здесь Каринского. Так, по-вашему, можно указать на эти ошибки?»
Так вопрошать могут только «чистые сердцем»! Это уж прямо евангельская простота и смиренномудрие; Христос и тот, верно, больше себя ценил.
Благодаря моим теперешним сношениям с Академией (работе над каталогом и получению книг на дом), мне с новой стороны приходится слышать об Алексее Александровиче, а иногда и видеть его самого.
В Академии, например, все сторожа тянутся перед академиками навытяжку, величают их не иначе как «Превосходительствами»126; Шахматова же называют просто Алексей Александровичем, в чем слышится ласковая фамильярность и теплота русского простолюдина к любимому барину.
В журнальном отделении библиотеки есть давно уже служащий старик сторож, больной и дряхлый, с трясущимися руками и ногами и слезящимися подслеповатыми глазами, и мальчик Шура, племянник его, что ли. Шура этот прекрасно знает свое отделение и где-то не то уже учится, не то собирается поступать, по крайней мере, нынче весной он держал какие-то экзамены (я слышала, как об них говорила с ним заведующая).
Шахматов почти каждый день заходит в русское отделение библиотеки (про иностранное не знаю) минут на 5, на 10, и вот раз я застала его разговаривающим на лестнице с этим стариком. У старика несколько времени болела рука и была на перевязи, и вот он показывал ее А. А. и долго говорил об ней; потом А. А. стал расспрашивать его о Шуре и его экзаменах, причем в тоне А. А. было слышно самое искреннее участие и живой интерес к человеку и его делам. Шахматов, верно, хорошо знает своих сторожей и их нужды и обстоятельства.
Так простояли они минут десять на лестнице, и Шахматов отдал сторожу эти десять минут так же просто и охотно, как отдал бы их любому студенту, нуждающемуся в его помощи и совете, а старик так же просто и доверчиво пользовался ими, делясь с А. А. своими несчастьями и радостями.
Известно, какие облегчения делает А. А. в библиотеке всем, кто только к нему обращается, учащимся же и начинающим ученым в особенности; известно то доверие и охотность, с какими он дает свое поручительство для получения на дом книг почти всякому.
Недавно я услышала, что в первое время своего заведования книжными делами Академии он давал из склада бесплатно академические издания всем, кто заявлял, что работает над таким-то вопросом и имеет нужду в таких-то сочинениях, а уж о его собственных книгах и говорить нечего. Прошлый раз библиотекарша рассказывала, что у них был один экземпляр летописей с примечаниями Шахматова127, и этот экземпляр постоянно брался на дом, так что в читальном зале его можно было получить только с трудом, урывками. Когда она обратилась к А.А с просьбой запретить выдавать его на дом, т. к. интересы читального зала (справедливо, конечно) должны перевешивать, А. А., ни слова не говоря, принес еще один или два экземпляра специально для читального зала.
Так и во всем он дает реальную помощь, не ограничиваясь одними благими пожеланиями.
Сегодня пришел в библиотеку требовать книг на дом за поручительством А. А. какой-то безусый юнец с ярким галстуком на цветной рубахе и гладко примоченными волосами. По костюму и разговору можно было думать, что он рабочий. Действительно, в расписке на книгу, которую он старательно выводил крупными, низко лежачими буквами с франтоватыми закорючками и замысловатыми завитушками, стоял адрес: «В[асильевский] О[стров], 9 л[иния], д. Академии Наук». Очевидно, или сторож, или – еще вернее – наборщик, т. к. там как раз помещается Академическая типография128. Вероятно, он просто обратился к А. А. со своей просьбой, и она, конечно, немедленно и так же просто была Шахматовым удовлетворена.
Много, конечно, хороших людей на свете, и многие помогают другим в нужде, но это в большинстве случаев делается мимоходом, как случится, если при этом не надо затрачивать много беспокойства и хлопот; многим, в сущности, очень мало дела до тех, кому они помогают, до мелочей их жизни, и помощь в таком случае является скорее для собственного спокойствия или вследствие минутного доброго движения сердца, А. А. же доходит до глубины и помогает потому, что хочет помогать, что надо помогать, серьезно и сознательно.
Ну, конечно, не от всех требовать одного и того же. Шахматовых один-два, да и обчелся, и слава Богу, что есть на земле такие многие, от них тоже много добра, хотя и случайного, почти бессознательного.
6/VII. Из того, что у меня не уничтожено множество моих произведений, можно заключить, что я ими очень дорожу, храню их как что-то ценное и постоянно с умилением перечитываю их (есть, говорят, такие авторы, большей частью из области непризнанных гениев, от каковых последних больше всего избавь меня Бог), как другие перечитывают Гомера и Шекспира.
Но какая это ошибка! Многие вещи мне так противны, что я их никогда в руки не беру и вспоминаю об них с отвращением, а не уничтожаю пока потому, что, во-первых, думаю, что смерть еще не сейчас придет к моему изголовью, а во-вторых, что в них может найтись что-нибудь, – образ ли или идея, – что может мне пригодиться для лучшего впоследствии, если оно когда-нибудь наступит для меня. В-третьих – этот пункт служит подразделением второго, – читая написанное мной когда-то, я вызываю в себе прежние чувства, то, что когда-то руководило моей рукой, и в будущем, когда рука будет более опытна, возобновлять эти чувства будет очень полезно.
Доказательством же того, насколько противно мне все написанное мной, может служить хотя бы то, что своих «Русских немцев», с тех пор как я их три дня назад окончила переписывать, я в руки больше не взяла и отправила в редакцию не пересмотренными129. Не от лени, а именно вследствие того, что они мне противны, как и все вышедшее из-под моего пера.
Единственное утешение мое – что когда-нибудь я напишу что-нибудь лучшее.
А стихи прямо оскорбляют мои вкус и ухо; но опять-таки с ними связано столько переживаний, они являются такой частью моей души, что к некоторым из них я, пожалуй, и действительно отношусь с нежностью, как к хорошему прошлому. Я ведь вообще из тех натур, которые скорее больше любят прошлое, чем настоящее, и наполовину живут в нем.
В стихах моих непосредственно отразились реально разные моменты моей жизни и переживаний, и они для меня – своего рода дневник души и событий.
Быть может, со временем, когда для меня не будет уж абсолютно никакой жизни в настоящем, они мне заменят ее, являясь отрадным, поэтичным по переживаниям прошлым, воспоминание о котором оживит безжизненность настоящего и облегчит переход в неизвестность будущего…
Но я уверена, что когда (и если) будет напечатана моя первая вещь, я уничтожу всю эту дребедень, т. к. тогда для будущего останутся более осязательные и настоящие следы прошлого.
7/VII. Когда я хандрю, мне тогда совсем не следует писать, потому что в это время большей частью пишется что-нибудь самое глупое и ненужное, часто ложное и фальшивое, и пишется-то плохо, потому что настоящей внутренней потребности писать в такие минуты не бывает, а так, одна скука только и скучающая блажь, ленивая, неповоротливая, ни на что не способная.
В таких случаях подворачиваются исключительно глупые сравнения, банальные обороты, мелочные и пошлые замечания о людях и окружающем и т. п., о чем впоследствии противно и вспомнить.
Причина – временная задержка мозговой деятельности, неправильное функционирование сосудов головного мозга, как бы оцепенение мозга в когтях злой ведьмы – хандры.
Эх, черт с ним со всем! И сегодня (я хандрю) она явилась ко мне, постылая!..
Позже. Иногда я бываю крайне мелочна в передаче подробностей каких-нибудь встреч и событий, и это происходит отчасти под влиянием соответствующего настроения, когда не видишь ничего целого, а хватаешься за кусочки (это и бывает в периоды, близкие наступлению хандры), отчасти из‑за предположения, что для характеристики упоминаемого лица могут быть важны все подробности; ведь по ним-то и создается образ человека.
Конечно, при этом бывает иногда, а у меня, вероятно, очень часто, что из‑за деревьев не видишь леса…
8/VII. Если после «Пруда» я еще ожидала что-нибудь от Ремизова, то после его «Рассказов» (издательство «Прогресс», 1910 г.) уж не жду ничего; и если там я не могла решить, талантлив он или нет, – здесь должна сказать «нет», т. к. в этих рассказах Ремизов обнаружил себя бездарностью.
Даже ума в них не видно, того ума, который не дает, конечно, таланта, но хоть предостерегает, по крайней мере, писателя от глупости.
Язык в рассказах очевидно старается быть оригинально-непринужденным, на самом же деле выходит далеко не оригинальным (Гоголь им давно заговорил в «Вечерах» и с несравнимым для Ремизова совершенством) и на каждом шагу деланым, так что темный, местами малопонятный язык «Пруда» в десять раз проще и оригинальнее: там чувствуются попытки новой манеры творчества, тогда как здесь и творчества-то вовсе нет. Дети могли бы написать так, как написана его «Бедовая доля», ибо глубокого смысла искать в ней напрасный труд, да и простого тоже. Автор, очевидно, любит детский мир, детскую психологию, но для изображения ее у него совсем нет ни остроумия, ни юмора, потому рассказы его, вроде «Царевны Мымры», крайне неуклюжи по юмору и попытке передать детскую психологию.
Любит еще автор, как мне кажется, народную мифологию, но и для передачи ее у него опять-таки многого не хватает, например поэзии, художественной фантазии; точно так же для изображения сцен из народной жизни автор не владеет народным языком.
Общее впечатление от этих рассказов (остановилась на второй части «Бедовой доли») – полное отсутствие творчества и неталантливость.
А жаль. Как человек он, верно, куда интереснее! Последний раз Петрашкевич рассказывал, что Ремизов замечательный каллиграф и не только любит писать разными почерками, но и выдумывает их сам постоянно новые. Так, в ссылке в Вологде он придумывал почерки в стиле каждого из товарищей по ссылке, которые соответствовали бы их психике и передавали бы их характерные особенности, и всем им – соответствующим почерком и в соответствующем стиле – написал визитные карточки, да Петрашкевич потерял свою и потому не мог показать ее. Может быть, характер был и неверно угадан, может быть, изобретенный почерк и не передавал его, – но самая попытка и склонность к этому – оригинальны130.
Весьма возможно, что в душе Ремизов и художник, может быть, он и тонко понимает поэзию (несомненно, например, природу он любит, а это невозможно для человека, не чуткого к поэзии), но передать своих чувств он не умеет.
Посмотрим дальше! Возьму еще что-нибудь из его древнерусских повестей, и если они тоже не удовлетворят меня – поставлю на Ремизове крест.
И это после Брюсова, писателя тоже оригинального!!
9/VII. Из ремизовского сборника интереснее других «Бесовское действо» да «Мака». В последнем рассказе яснее, чем где бы то ни было, обнаруживается вся нежность души Ремизова и его любовь к детям. Я думаю, что он прекрасный семьянин и нежный отец, и, верно, у него есть собственная дочурка, с которой он и списал Сашу в «Маке». Особенно хороши два пальчика «сосунок» и «дерунок»131…
Попозже. Третьего дня, в субботу, исполнила свое обещание и съездила к А. С. Пругавину, отвезя ему великолепный букет полевых цветов, за которыми в пятницу нарочно ходила очень далеко.
До чего я люблю полевые цветы, когда они огромной, беспорядочной, но со вкусом подобранной охапкой стоят в каком-нибудь широком глиняном горшке, кувшине или крынке132! Это такая роскошь! Цветущая свежесть, неприкрашенная молодость, безыскусственная красота природы и сама жизнь, неиспорченная, не исковерканная прикосновением человеческой руки, – вот что такое полевые цветы.
Букет был так хорош, что, если бы я не думала доставить им удовольствие А. С., я непременно оставила бы его у себя.
И вот, к сожалению, я не застала А. С. дома! Ни прислуги, ни его. Дачка совершенно пустая, но не запертая, и хозяйка, живущая напротив, сказала, что, уезжая, А. С. отдал приказание, если кто к нему приедет, – чтобы оставался ночевать, располагался как дома, велел себе поставить самовар и брал по записке из лавки все что нужно.
Конечно, я ничем этим не воспользовалась, разыскала только эмалированный кувшин, который вместе с лоханью стоял в сенях, наполнила его водой и поставила туда цветы, сразу ожившие и расцветшие опять, затем до следующего парохода отправилась в лес, который в пяти минутах ходьбы, если не меньше.
А. С. живет в Московской Дубровке (по Неве)133. Дача у него – старый деревянный домик с мезонином, очень напоминающий по внутреннему расположению крестьянскую избу, зимой в ней живет сам хозяин, лавочник.
Простые сени, одностворчатая тяжелая дверь с клямкой134, три маленькие низкие комнатки и кухонка – вот все помещение. В мезонине, принадлежащем тоже к даче, не была.
Первая комната, сейчас из сеней, пустая; во второй – кровать, два стола и два стула; один стол весь аккуратно закрыт газетной бумагой, под которой виднеются очертания каких-то предметов, должно быть книг, чернильницы и пр.; это, очевидно, рабочий стол; на другом – бумажная скатерть135 с красными каемками, сахар в желтом мешочке, графин с водой и еще что-то; это стол обеденный. В соседней комнате – тоже кровать и принадлежности мужского костюма; очевидно, спальня А. С., и я туда не входила.
Так он живет летом. Обстановка более чем скромная. Тоскливо, должно быть, бывает ему одному тут!
Жаль, что не застала, жаль!
13/VII. Сегодня А. С. прочел мне наброски своей пьесы в двух действиях, которую он начал теперь летом и думает послать осенью в какую-нибудь редакцию под псевдонимом. «Другие же пишут! – добавил при этом А. С., храбро улыбаясь. – Вон Боборыкин недавно двухактную пьесу написал, зимой ставить будут136… А Шницлер тоже написал новую пьесу, в которой приводит в сопоставление религию с наукой137; это должно быть интересно!»