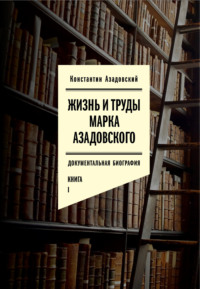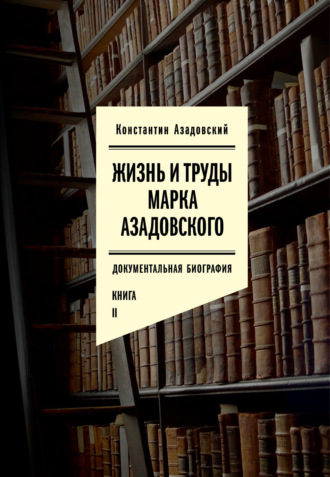
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Следует упомянуть еще об одной работе М. К., непосредственно связанной с Языковым: письмах Гоголя к поэту. Еще в мае 1938 г. ученый заключил договор с издательством АН СССР, обязуясь подготовить для 8‑го тома Полного собрания сочинений Гоголя статью «О малороссийских песнях» (вместе с комментарием), а для 12 и 13‑го томов – письма Гоголя к Языкову за 1842–1846 гг. Общий объем договорного текста составлял 3,5 листа, комментария – 0,75 листа (56–7; 3–6).
Все указанные тома Полного собрания появились уже после войны (в юбилейном 1952 г.). М. К. представлен в 11‑м томе комментарием к двум письмам Гоголя к Языкову 1841 г.; комментарий к сорока двум остальным письмам выполнен другими лицами. Приступил ли в свое время М. К. к работе над примечаниями к этим письмам и в какой степени успел ее выполнить, неясно62.
11 марта 1954 г. – в стране уже ощущались «новые веяния» – редакция «Советского писателя» обратилась к М. К. со следующим письмом:
Редколлегия «Б<иблиоте>ки поэта» предлагает Вам взять на себя подготовку сборника стихотворений Языкова (Большая серия). Как только будет решен окончательно вопрос о плане выпуска 1955 г. и спущены фонды авторского гонорара (не ранее мая 1954 г.), мы сможем вступить с Вами в договорные отношения.
Надеемся, что Вы уже сейчас исподволь начнете работать над сборником, если согласитесь взять на себя его составительство (61–62; 19).
Письмо было подписано К. К. Бухмейер, старшим редактором «Библиотеки поэта». Ответ неизвестен. Вероятно, занятый в то время другими работами, М. К. попросту отказался. Примечательно, что спустя десять лет том произведений Языкова в «Большой серии» все же появился; его составительницей выступила… К. К. Бухмейер. В своем комментарии исследовательница оценила работу своего предшественника следующими словами:
Первое полное собрание и вместе с тем первое научное издание стихотворений Языкова вышло лишь в советское время под редакцией М. К. Азадовского («Полное собрание стихотворений». М. – Л., «Academia», 1934). Для этого издания было обследовано большинство журналов и альманахов 1820–1840‑х годов, использованы позднейшие публикации и накопленные к этому времени в архивных хранилищах страны рукописные материалы. В книгу вошло 80 стихотворений, не включавшихся ни в одно предшествующее собрание, и 25 ранее не опубликованных. В Примечания к сборнику вошли сведения библиографического, текстологического, историко-литературного и реального характера.
Хотя М. К. Азадовский при выборе источника текста не всегда обоснованно отдавал предпочтение рукописям, «Полное собрание стихотворений» до сих пор является основополагающим для издания и изучения поэтического наследия Языкова63.
Эта характеристика справедлива и сохраняет свою силу до настоящего времени, не говоря о том, что и другие «языковские» работы М. К. широко используются историками литературы и фольклористами64.
Глава XXVI. «Конек-Горбунок»
Исследуя пушкинский фольклоризм и работая над «Полным собранием стихотворений» Языкова, М. К. естественно приблизился к творчеству П. П. Ершова. Выходец из Сибири, автор «Конька-Горбунка» – выдающегося поэтического произведения на фольклорной основе, пользующегося всероссийской известностью и отмеченного самим Пушкиным, – Ершов как бы преломлял в себе разнонаправленные интересы М. К.: литература и фольклор, сибирская литература, поэзия пушкинской эпохи…
Следует сказать, что в конце 1920‑х гг., впервые обратившись к Ершову, М. К. склонен был рассматривать его в контексте не столько сибирской, сколько общерусской литературы. В заметке, помещенной в первом томе «Сибирской советской энциклопедии», он утверждал, что по характеру своей лирики Ершов «принадлежит к Пушкинской плеяде. Сибирские мотивы у него немногочисленны…»1. Тем не менее в статье «Литература сибирская» Ершов упоминается уже в связи с той особой культурной традицией, которая, как показывает М. К., сложилась в Тобольске в конце XVIII – первой половине XIX в.2
Начатая в 1932 г. работа предназначалась для издательства «Academia». «…Я наглею не по дням, а по часам, – писал М. К. 26 июня 1932 г. М. П. Алексееву, – не успев еще сдать Языкова (и неизвестно, когда сие будет), я заключил новый договор с Academie <так!>. И на… „Конька-Горбунка“. Буду ждать Вашего приезда на предмет длительных консультаций. Пока не знаю, даже как приступиться».
«Приступиться» было действительно непросто. Несмотря на огромную популярность «Конька-Горбунка» в народной среде, это произведение в течение долгого времени не пользовалось вниманием со стороны историков русской литературы. В своей заметке, написанной к 100-летию первого издания, М. К. подчеркивал:
…«Конек-Горбунок» жил в атмосфере литературного равнодушия. Его усердно читали, но ничего о нем не писали. Он никогда не упоминается в каких-нибудь историко-литературных трудах (разве только в примечании), о нем почти нет исследовательских работ, как нет до сих пор научной биографии самого Ершова3.
Пришлось начинать «с нуля». В первую очередь, как и в случае с Языковым, М. К. счел нужным выявить сохранившиеся рукописи Ершова и ознакомиться с ними. 16 ноября 1932 г. в письме к А. А. Богдановой он интересуется работой А. И. Мокроусова, впервые сообщившего в 1919 г. о тобольских рукописях Ершова4, и спрашивает:
Между прочим, я дважды писал в Тобольский музей с просьбой сообщить, что у них имеется об Ершове. Никакого ответа. Этакое свинство! Нет ли кого из Ваших знакомых в Тобольске, кому можно было бы написать и попросить кое-что сделать для меня: выписки, снимки5.
О первых шагах, предпринятых М. К., позволяет судить его письмо к В. Д. Бонч-Бруевичу от 11 марта 1933 г.:
Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич,
разрешите обратиться к Вам с большой просьбой. Я сейчас работаю над Ершовым (для издательства «Academia»). Я прекрасно знаю, что целый ряд материалов по Ершову имеется в Тобольском Музее. Там есть рукописи, есть портреты, есть карикатуры и зарисовки и пр. и пр. Все это было описано в листовке некоего Симонова, местного литератора-неудачника, покончившего жизнь самоубийством6. В свое время он организовал при Музее Кабинет Ершова, который, после смерти Симонова, пришел в полный упадок. А затем местное начальство как будто вообще не благоволило к этому делу. Начав работать над Ершовым, я прежде всего написал письмо в Музей с просьбой сообщить мне список того, что у них имеется, помимо описанного Симоновым, а также прислать мне некоторые копии. Ответа не было. Месяца через четыре я повторил свою просьбу – снова никакого ответа.
Теперь я рассчитываю на Ваше содействие. Нельзя <ли> затребовать, хотя бы на время, эти материалы в Ваш Музей, хотя бы первоначально для снятия снимков и копий (я думаю, после можно было бы договориться с ними и о передаче их целиком к Вам, ибо на месте они явно не нужны). Я же бы приехал специально в Москву, чтобы поработать над ними в Вашем Музее, обработав часть для своего исследования, а часть – для «Звеньев» или «Летописи».
Я полагаю, что на Ваше письмо (или, б<ыть> может, даже прямое распоряжение Наркомпроса) ответ последует, если не немедленно, то, во всяком случае, достаточно быстро7.
В. Д. Бонч-Бруевич не замедлил откликнуться на просьбу М. К. и ответил ему 20 марта 1933 г.:
Письмо Ваше относительно Ершова я получил и запросил Тобольский музей. Если они мне ответят, сейчас же Вам сообщу о результатах. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы ненапечатанные ершовские материалы Вы могли обработать для «Звеньев»8 (59–13; 2).
Но Тобольский музей безмолвствовал. Тогда М. К. решил действовать через издательство «Academia», которое, насколько можно судить, обратилось прямо к районному начальству. В результате 30 сентября 1933 г. Тобольский музей направляет московскому издательству следующий ответ:
Никаких писем музей от проф<ессора> Азадовского, как и от директора Центр<ального> Лит<ературного> Музея В. Д. Бонч-Бруевича, относительно «Конька-Горбунка» не получал. Что же касается по существу вопроса, то, действительно, в Музее хранился экземпляр первого издания произведений Ершова, но этот экземпляр похищен, и теперь в музее не имеется вообще какого бы то ни было экземпляра «Конька-Горбунка».
Но мы можем предложить вниманию Вашего издательства, как и вниманию Центр<ального> Литер<атурного> Музея, другое. Дело в том, что недавно нам была доставлена рукопись (три тетради в одной книге) стихотворений Ершова и, как нам кажется, нигде не изданные и никому не известные.
Далее следовали оглавление (перечень стихотворений и даты) и две просьбы: во-первых, сообщить, «насколько правильно наше предположение, что эти стихи нигде не напечатаны и никому не известны», а во-вторых, дать ответ на вопрос, представляют ли эти стихи «литературный или какой-нибудь интерес». Во втором случае Тобольский музей обещал «содействовать интересующихся в этом направлении <так!>» (67–17). Письмо было подписано директором музея (подпись в машинописной копии отсутствует).
Бесспорно, что и М. К., и Бонч-Бруевич выразили желание ознакомиться с содержанием «трех тетрадей», и тоболяки, сдержав свое обещание, прислали их в Москву. Дальнейшая многолетняя работа М. К. над Ершовым не оставляет сомнений в том, что он располагал всеми стихотворными текстами этой рукописи9. В его архиве сохранилась машинописная копия стихотворений Ершова, насчитывающая 200 страниц, с пометой «Из Тобольской тетради» (34–4). А в издании 1936 г. («Малая серия» «Библиотеки поэта») три (из восьми) стихотворений Ершова, следующих за сказкой «Конек-Горбунок», имеют в примечаниях помету: «По рукописи (автографу) Тобольского музея».
Первым по времени изданием «Конька-Горбунка» (с участием М. К.) была книга, выпущенная ОГИЗом в конце 1933 г. и оформленная Т. Н. Глебовой, ученицей Павла Филонова. Текст сказки был подготовлен М. К. Как известно, при жизни автора состоялось несколько изданий «Конька-Горбунка», причем первое (1830) подверглось серьезному цензурному вмешательству, а второе и третье представляли собой перепечатку первого. По этой причине, сопоставив прижизненные редакции, М. К. отдал предпочтение четвертому («первому полному») изданию сказки (1856), в котором автор устранил цензурные пропуски, сделанные в предыдущих публикациях. Это текстологическое решение станет основой для последующих изданий «Конька-Горбунка», осуществленных М. К. Кроме того, ученый составил небольшой список областных и старинных слов, который сопровождает текст ершовской сказки во всех дальнейших изданиях (включая детские), появившихся под его редакцией10.
Для следующего издания «Конька-Горбунка» (рукопись была представлена в издательство «Academia», видимо, в начале 1934 г. и приурочена к 100-летию первого издания) М. К. избрал другое текстологическое решение. Исходя из того, что в четвертом издании Ершов хотя и восстановил ряд мест, изъятых цензурой, но заменил их новыми вариантами, искажающими первоначальный текст, М. К. публикует ершовскую сказку по первому изданию, а в примечаниях приводит «наиболее крупные разночтения печатных редакций», комментируя замены, произведенные автором в 1850‑х гг.11
В процессе подготовки этого издания М. К. пришлось изменить (сократить) его библиографический раздел. Юбилейное издание «Конька-Горбунка» в «Academia» замышлялось поначалу как максимально полное. «Предполагалось, – сообщает Л. В., – дать полную, исчерпывающую библиографию этого памятника, которая включала бы в себя все переделки, подражания, переложения и переводы его на иностранные языки»12. Понятно, что сокращения были навязаны М. К. (вероятно, издательскими редакторами).
Предисловие М. К. к этому изданию, озаглавленное «Путь Конька-Горбунка», представляет собой первый вариант его статьи о Ершове; в существенно доработанном виде она будет публиковаться впоследствии под другими названиями. Развивая свою концепцию пушкинского фольклоризма, М. К. рассматривает «Конька-Горбунка» в русле тех ожесточенных споров о народности, что велись в 1830‑е гг., и сопоставляет сказку Ершова, «произведение еще не вполне окрепшего таланта», со зрелым фольклоризмом пушкинских сказок. Подобно другим статьям М. К. 1930‑х гг., его очерк о «Коньке-Горбунке» броско окрашен социологизмом («Литература растущей буржуазии обращается к фольклору как к одному из орудий в своей борьбе с феодализмом…»13 и т. п.).
Это издание, увидевшее свет на рубеже 1934 и 1935 гг., занимает особое место как в истории издательства «Academia», так и в биографии М. К. Появление книги, подписанной к печати, согласно выходным данным, 15 сентября 1934 г., совпало по времени с убийством Кирова (1 декабря 1934 г.), повлекшим за собой массовые репрессии, которые коснутся не в последнюю очередь Л. Б. Каменева и его окружения. Можно только догадываться, какие чувства испытывал в той атмосфере М. К., тесно связанный тогда с издательством «Academia», в котором вышли его капитальные труды: «Русские сказки» и «Собрание сочинений Языкова». В этот же ряд попадает и «Конек-Горбунок». Тревожная ситуация вокруг этого издания, появившегося как раз накануне убийства Кирова и ареста Каменева, усугублялась тем обстоятельством, что книгу иллюстрировал Н. Б. Розенфельд (1886–1937 или 1938), родной брат Льва Каменева, работавший для издательства «Academia». Арестованный через несколько месяцев по «кремлевскому делу»14, он признался на следствии в «террористических намерениях», был приговорен к десяти годам заключения и погиб в ГУЛАГе. О его личном общении с М. К. ничего не известно, но трудно предположить, чтобы в течение 1934 г., при подготовке книги, художник-оформитель ни разу не встретился с составителем и автором предисловия, тем более если вспомнить, какое значение М. К. придавал художественному облику печатных изданий – особенно тех, в которых сам принимал участие.
А год спустя – на фоне нараставших в середине 1930‑х гг. разоблачений «буржуазного формализма» и «левацкого искусства» – иллюстрации Н. Розенфельда к «Коньку-Горбунку» подверглись яростным нападкам на страницах центральной печати. Так, автор статьи в «Комсомольской правде» заклеймил В. В. Лебедева, оформителя нескольких книг С. Я. Маршака, но еще более – Н. Б. Розенфельда. Приветствуя факт издания «Конька-Горбунка» («народной сказки»!), журналист в то же время не пожалел слов в отношении художника (к тому времени уже осужденного): «извращенная условность», бессмысленная мазня», «пропаганда дурного вкуса»15. Выпад против Розенфельда поддержала и центральная «Правда» анонимной статьей под названием «О художниках-пачкунах»16. В этих статьях отражалась новая линия советского руководства в отношении изобразительного искусства и художников, не желающих считаться с «принципами реализма»17.
Расправа над Каменевым и разгром «Academia» не коснулись М. К., чего он, разумеется, опасался. Более того, он продолжал сотрудничать с новой дирекцией, которую возглавлял – вплоть до закрытия издательства в 1937 г. – Я. Д. Янсон (М. К. мог знать его по работе в Чите), и осуществил в 1937 г. юбилейное издание пушкинских «Сказок». Однако наиболее плодотворный период его работы в «Academia» (1932–1934) был уже позади…
Первые издания «Конька-Горбунка» (1933–1935) не могли удовлетворить М. К. Собрав богатейший материал по Ершову, он ищет возможность представить и осветить его творчество более широко, чем в издании «Academia», и задумывается о Полном собрании сочинений. Реализовать этот замысел М. К. надеялся в новосозданной серии «Библиотека поэта». Л. В. сообщает, что издательство «Советский писатель», в ведении которого с 1934 г. она находилась, не смогло – «по техническим причинам» – осуществить этот замысел, и сборник был перенесен из «Большой серии» в «Малую»18. Нам видится, однако, иная последовательность. Редактируя в течение 1935 г. первые – «фольклорные» – выпуски «Малой серии», М. К. настоял на включении в план будущих изданий томика Ершова, фактически уже готового19, и лишь после завершения работы для «Малой серии»20 поставил вопрос о Полном собрании сочинений. Об этом он информировал осенью 1936 г. Н. В. Ершову, внучку поэта. «Вы себе и представить не можете, – откликается Ершова 15 декабря 1936 г. (из Благовещенска), – какую большую радость доставило мне Ваше письмо, Ваше сообщение о том, что проектируется издание всех сочинений П. П. Ершова»21.
«Стихотворения» Ершова в «Малой серии» «Библиотеки поэта» открывались статьей «Автор „Конька-Горбунка“», значительно превосходящей по объему предисловие к «Коньку-Горбунку» в «Academia». Наряду с проблемой «народности» и «фольклоризма» здесь поставлены и освещены новые темы: сибирский «элемент» в творчестве Ершова; фольклорные и литературные источники «Конька-Горбунка»; восприятие сказки на фоне дискуссий о «народности» в 1830‑е гг. Подробно говорилось и о самом Ершове, круге его общения в петербургский и тобольский периоды и т. д.
Спустя год, слегка доработав статью, М. К. републикует ее под тем же названием в своем авторском сборнике (1938)22. Вторая ее редакция содержала ряд дополнительных примечаний к материалам, обнаруженным или опубликованным уже после завершения работы для «Малой серии» «Библиотеки поэта», а также – отсылок к собственным трудам. Например, М. К. счел нужным указать на свою заметку «Пушкинские строки в „Коньке-Горбунке“»23, в которой он проанализировал и подверг сомнению предположение, впервые высказанное в 1913 г. Н. О. Лернером, – о принадлежности Пушкину первых четырех строк ершовской сказки24. Не отрицая возможности редакторского прикосновения Пушкина к зачину «Конька-Горбунка», М. К. протестовал против включения этих строк в собрания его сочинений25. (Эта точка зрения была принята впоследствии всеми пушкинистами.)
Помимо «Конька-горбунка», томик в «Библиотеке поэта» включал в себя восемь стихотворений Ершова, причем пять из них М. К. напечатал по автографам Тобольского музея; в примечании к каждому стихотворению сообщались дата и место первой публикации. Издание завершалось кратким, в одну страничку, библиографическим списком, который начинался фразой: «Собрания сочинений Ершова (ни полного, ни избранного) не существует»26.
В какой степени успел продвинуться М. К. в своей работе над Полным собранием сочинений Ершова в течение 1936–1937 гг.? По-видимому, не слишком далеко. Во всяком случае, в середине 1937 г., откликаясь на приглашение писателя С. Е. Кожевникова (1903–1962), главного редактора Западно-Сибирского краевого издательства27, принять участие в задуманной им серии «Литературное наследство Сибири», М. К. формулирует следующее «интересное предложение»:
Не решите ли издать полное (вернее, почти полное) собрание сочинений Ершова. Я ведь располагаю большим количеством его неопубликованных стихов. Следовало бы дать обе редакции «Конька-горбунка», «Сузге»28, кое-что из прозы (не все заслуживает переиздания), бо́льшую часть его лирики (исключив только ультрарелигиозную) – дать библиографию и т. д. Если бы включить это в план, я охотно взял бы на себя подготовку и редактуру. Черкните. Издание, по мысли, займет листов 30–40 авторских, включая сюда примерно листа 3–4 для статьи и комментариев29.
К вопросу об издании Полного собрания сочинений Ершова М. К. возвращается в письме к Кожевникову 24 марта 1938 г.: «Надо же, наконец, когда-нибудь сделать настоящего Ершова»30. Кожевников ответил согласием, и договор был заключен. «Ершова включим в план 1939 г. Будем настаивать», – ободряет он М. К. 16 апреля 1938 г. (62–60; 2). Однако дело подвигалось медленно и неровно. М. К. приходилось отвлекаться на другие работы, в том числе и для новосибирского издательства (записи А. Мисюрева, записи С. И. Гуляева и др.). Неблагоприятно складывались и внешние обстоятельства: болезнь М. К. осенью 1939 г.31, холодная зима 1939–1940 гг. (период Зимней войны), когда часть зданий в Ленинграде осталась без отопления и работать в библиотеках было фактически невозможно32. Эти постоянные сбои вызывали у М. К. беспокойство: он надеялся издать книгу в юбилейном для Ершова 1940 г. «Жаль, что дело с Ершовым затягивается, – пишет он Кожевникову 3 июля 1939 г. – Юбилей-то ведь в марте»33.
Книга была составлена через два с половиной года после подписания договора. 17 февраля 1940 г., отправляя рукопись в Новосибирск (без комментариев и вступительной статьи), М. К. сообщает Кожевникову:
В рукописи получилось листов восемнадцать, а может быть, и меньше. <…> Я включил в нее все поэмы, много стихотворений, две пьесы и несколько глав из его прозы «Осенние вечера»34 <…> найденное в одном старом журнале либретто оперы (также якобы утраченной)35, а в приложении ту часть пьесы Козьмы Пруткова, в которой принимал участие Ершов36. <…>
Пьес всего две: и обе очень нужны. Пьеса о Суворове37 неожиданно приобретает даже злободневный характер, и, вообще, она очень хороша.
Так как Вы получите рукопись еще без комментариев, Вас может смутить длинная «Parbleu»38 (двенадцать эпиграмм на какого-то тобольского архитектора). Но эта пьеса интересна не сама по себе, а по своим историко-литературным отношениям, так как устанавливает еще один момент связи Ершова с Козьмой Прутковым. Поэтому ее необходимо сохранить.
Вот пока и все необходимые pro-commentarii39. В самих комментариях читатели и исследователи найдут кое-какие вкусные конфетки; например, я установил, кто был адресат замечательного послания: «Готово! Ясны небеса!» То есть фамилия его была известна и раньше – Тимковский, – но кто был он? Удалось установить, что этот тот самый моряк Тимковский (сын известного цензора пушкинской поры), который позже был привлечен к делу о петрашевцах и вместе с Достоевским выслушивал смертный приговор на площади40. Разыскался даже его портрет, который будет Вам выслан вместе с прочим иллюстративным материалом.
Иллюстрации будут готовы только к первому июля – таковы темпы академической лаборатории. Я посылаю Вам три неопубликованных портрета:
а) портрет молодого Ершова, неизвестного автора,
б) миниатюра Теребенева (!)41,
в) портрет тобольского периода работы Знаменского42 и с автографом Ершова (стихи на портрете)43.
Затем фото могилы Ершова в Тобольске и ряд разнообразных иллюстраций к «Коньку-Горбунку»44.
Так формировался однотомник Ершова, завершенный и представленный М. К. в новосибирское издательство в начале 1940 г. При всей своей «солидности» издание получилось неполным и даже не «почти полным», как предполагал составитель в 1937 г. Очевидно, что по ходу работы М. К. не раз приходилось уточнять состав сборника. К этому его побуждало, в частности, содержание поздних стихов Ершова, проникнутых монархическими и религиозными мотивами; их приходилось «дозировать». «…Я свел их к минимуму, но все же кое-что осталось, но без этого трудно представить поэта тридцатых–сороковых годов», – писал М. К., убеждая Кожевникова «не смущаться» этими моментами45.
«Рукопись я прочитал внимательно, маленькими дозами, – отвечал ему Кожевников в мае 1940 г. – Проделана серьезная работа, книга получится солидной»46. Однако через полтора месяца Кожевников стал требовать значительных сокращений: «Либретто „Страшный меч“, я думаю, печатать не надо…»; «То же самое можно сказать и о „Носе“, и о „Черепослове“»; «Я высказываюсь также против опубликования „Песни казака“, „Видения“. Очень уж они махрово-монархические»; «Не нравится мне и „Русский штык“ и три вещи из цикла „Моя поездка“…» и т. д.47 Кожевникова можно понять: как редактор, отвечающий за идеологическую чистоту издания, он вынужден был «предохраняться». В его письме к М. К. звучат даже извинительные нотки: «Разумеется, я не за то, чтобы причесать Ершова современной гребенкой. Кое-что можно понять и извинить, но зачем же все печатать? Зачем из‑за нескольких вещей ставить под удар всю книгу»48.
Понимая, что без сокращений не обойтись, М. К. отчасти согласился с требованиями Кожевникова, но в некоторых пунктах решительно ему возражал49.
Так задуманное М. К. полное или «почти полное» собрание сочинений Ершова превратилось в «Избранные сочинения»50.
Кроме того, состав подготовленной М. К. книги пришлось – уже в процессе работы – соотносить с однотомником избранных сочинений Ершова, появившимся в Омске в 1937 г.51. Издание было выполнено небрежно и содержало немало «грубых ошибок, фактических неточностей, стилистических ляпсусов и опечаток»52; тем не менее М. К. был вынужден «оглядываться» на это издание, стремясь, как он писал Кожевникову 17 февраля 1940 г., сделать новосибирское издание полнее омского. И наконец, на объем и полноту однотомника влияли не зависящие от М. К. обстоятельства, например постоянный дефицит бумаги.
В результате выпустить однотомник в 1940 г. – к 125-летию со дня рождения Ершова – так и не удалось. В ноябре 1940 г. издательство поставило перед М. К. вопрос о необходимости сократить рукопись с 20 листов до 15. Он, по-видимому, отказался выполнить это требование, издательство же пошло на уступки. Книга была набрана, и в мае 1941 г. М. К. получил корректуру. Однако начавшаяся война остановила работу. 12 декабря 1941 г. издательство уведомляет М. К. о том, что «однотомник Ершова хранится в гранках, еще не сверстан. Матрицировать его, очевидно, не будем – это в условиях нашей типографии сложно, проще хранить набор» (61–58; 1).