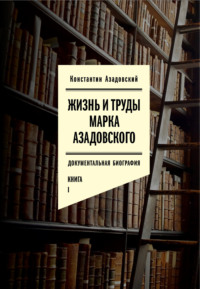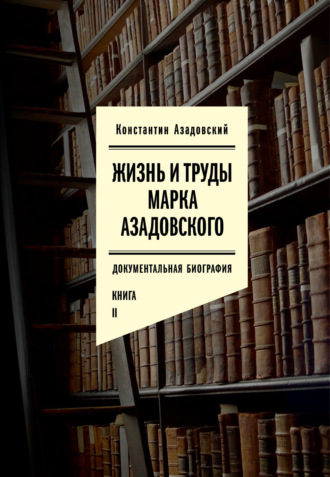
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Материалы, отражающие работу М. К. над этим изданием, включая ряд набранных текстов, сохранились в его личном архиве (28–2 и 28–3).
Готовясь отметить в 1940 г. юбилей Ершова, журнал «Сибирские огни» (в начале 1940 г. Кожевников был назначен его главным редактором53) обратился к М. К. с просьбой предоставить для публикации «материалы о П. Ершове», а также принять участие в предстоящем юбилее. «Сибиряки очень хотели бы, – писал М. К. секретарь «Сибирских огней» Г. П. Павлов54, – вновь встретиться с Вами лично и думают, что Вы не откажетесь приехать в Сибирь на юбилей П. Ершова» (68–18; 1). Кажется, поначалу М. К. склонялся к поездке. «С большой радостью мы узнали от товарища Кожевникова, – писал 31 января 1940 г. прозаик А. Л. Коптелов, член новосибирского бюро Союза советских писателей, – о том, что в марте этого года Вы можете приехать к нам в Новосибирск на празднование 125-летнего юбилея со дня рождения сибирского поэта П. Ершова» (63–11; 6). Предполагалось, что М. К. сделает доклад о жизни и творчества Ершова на юбилейном литературном вечере, а также примет участие в предстоящем фольклорном совещании (в Новосибирске): прочитает лекцию на тему «Сибирь в народном творчестве» и проведет консультации с местными фольклористами.
Одновременно (4 февраля 1940 г.) М. К. получил телеграмму от директора Омского областного издательства С. Г. Тихонова (1900–1942) с предложением заехать по пути в Омск и сделать на заседании местного литературного объединения доклад о Ершове в фольклорном аспекте. «Располагаем интересной находкой, – сообщалось в телеграмме. – Подробности письмом» (67–58).
Однако поездка не состоялась. «Профессор Азадовский прислал телеграмму, в которой благодарит за приглашение на юбилей Ершова, но в марте приехать не сможет», – записывает Тихонов в своем дневнике 7 февраля 1940 г.55
Что касается публикации в «Сибирских огнях», то М. К. предложил для «ершовского» номера статью (или заметку?) о неизвестных произведениях Ершова – очевидно, фрагмент своей будущей «новосибирской» книги. В письме от 26 ноября 1939 г. Г. Павлов сообщает, что статья М. К. о Ершове планируется во второй номер за 1940 г.:
Кроме того, в № 2 можно будет дать некоторые неопубликованные тексты Ершова, но не больше чем на 1½ листа. Что же касается статей Ваших учеников, то редакция «Сибирских огней» не возражает напечатать одну из них в № 1, желательно «„Конек Горбунок“ и народная поэзия». Если эта статья не может быть прислана к 15–20 декабря, тогда можно перенести ее в № 3.
Нами получены из Тобольского государственного музея снимок с дружеской карикатуры тобольского Знаменского56 на П. Ершова и «П. Ершов на смертном одре». Нам сообщают, что эти снимки нигде еще не были опубликованы.
Какой портрет П. П. Ершова Вы рекомендуете нам опубликовать и где его раздобыть? (68–18; 3)
Кого из своих учеников мог рекомендовать М. К. «Сибирским огням»? По-видимому, аспирантку Л. В. Хайкину, писавшую о фольклоризме Ершова57 (ее работа осталась неопубликованной). А вскоре редакция получила большую статью М. К. Авторское ее название неизвестно, однако из переписки с Кожевниковым ясно, что М. К. пытался представить Ершова на широком фоне литературного движения в Сибири первой половины XIX в. Обе работы (Л. Хайкиной и М. К.) поступили, однако, слишком поздно58, так что редакция, дабы откликнуться на юбилейную дату, вынуждена была поставить в первый номер (январь – февраль) очерк В. Уткова «П. Ершов в Петербурге»59. Статья М. К. передвинулась в третий номер60. К тому же, несмотря на высокую оценку рецензентов61, она удовлетворила Кожевникова лишь в своей первой части, а в отношении второй он выдвинул несколько требований:
…я должен просить Вас кое-что изменить во второй части статьи. В ней сказано очень мало о лит. движении в Сибири вообще и непропорционально много о Ершове. Так вот я прошу более развернуто показать раннее литер. движение и соответственно уменьшить часть о Ершове. Надеюсь, что Вы исполните нашу просьбу. Сроками мы Вас не ограничиваем62.
Однако М. К. не согласился на сокращения.
В конце войны ученый вновь вернулся к Ершову. Открывшаяся ему в Иркутске возможность выпустить сборник своих работ, посвященных литературе и культуре Сибири, заставила его внести изменения в статью 1938 г., переместив акцент на ранний (тобольский) период жизни поэта. По-новому, хотя и кратко, освещены первые петербургские годы; введены, в частности, сведения о К. И. Тимковском, заимствованные, возможно, из предисловия к новосибирскому однотомнику. Статья получила название «Первая глава биографии Ершова».
К моменту появления «Очерков литературы и культуры Сибири» (1947) М. К. уже вступил в переговоры с редколлегией «Библиотеки поэта», согласившейся выпустить однотомник Ершова в «Большой серии»; заявку одобрили, и был заключен издательский договор. Ученого, как видно, не покидало желание издать полное (или хотя бы относительно полное) собрание произведений Ершова. Опираясь на материалы несостоявшегося новосибирского издания, М. К. готовит новый однотомник, в целом завершенный и представленный в издательство в конце 1947 г.
Рукопись, сохранившаяся в архиве ученого (29–6), представляет собой корректурные и машинописные листы, восходящие, видимо, к новосибирскому однотомнику, с правкой М. К. Сохранилась и копия содержания. По этим материалам можно судить об издании 1948 г., его структуре, полноте и масштабности.
Однотомник, на титуле коего значилось «Ершов П. П. Поэмы и стихотворения. Редакция, вступительная статья и комментарий М. К. Азадовского», открывался предуведомлением «От редактора» и вступительной статьей. Основная часть книги состояла из четырех разделов: 1. Поэмы; 2. Стихотворения 1833–1835; 3. Шуточные поэмы и стихотворения; 4. Первая редакция поэмы «Конек-Горбунок». За ними следовали два приложения: 1. Куплеты из оперетты «Черепослов, сиречь френолог»; 2. Пьеса «Суворов и станционный смотритель». Далее – раздел, озаглавленный «Список произведений Ершова, не включенных в настоящее издание» (35 названий в хронологическом порядке, причем некоторые названия обозначают циклы из нескольких стихотворений). И наконец, перечень утраченных и ненайденных произведений Ершова (13 названий, с указанием источников). Отсутствует в указателе содержания (хотя, конечно, предполагался) список областных и устаревших слов – им завершаются все издания «Конька-Горбунка», осуществленные под редакцией и при участии М. К.
Том был пополнен – по сравнению с новосибирским однотомником – новыми архивными материалами. Гордясь свежими находками, М. К. сетовал, что не успел использовать ряд известных ему документов из московских архивов. «Я подготовил для „Библиотеки поэта“ том Ершова, – сообщал он А. Н. Турунову 18 октября 1948 г. – Большой том – листов 25–30. Много будет нового, но совершенно отсутствуют архивы московские. Я собирался все время посетить с этой целью Москву, но так и не собрался» (88–31; 60 об.). В связи с этим М. К. просил Турунова посмотреть для него материалы в Отделе рукописей Ленинской библиотеки и Центральном литературном архиве63, добавляя: «Хотелось бы уж очень сделать старика получше» (88–31; 61)64.
В результате том, подготовленный М. К. для «Большой серии» «Библиотеки поэта», не охватывал всех произведений Ершова, но давал все же достаточное представление о его литературном наследии. Это было первое в России издание такого рода, и если бы оно появилось на рубеже 1940‑х – 1950‑х гг., то, бесспорно, стало бы отправной точкой для дальнейшего изучения Ершова. Этого, увы, не случилось.
Готовя это издание, призванное познакомить русского читателя с разными сторонами ершовского творчества, М. К. продумывал, естественно, его художественное оформление. О том, какие именно иллюстрации он предполагал использовать, позволяет судить письмо А. Г. Островского, редактора «Библиотеки поэта», от 9 декабря 1949 г. Возвращая М. К. фотоматериалы, уже поступившие в издательство, редактор упоминает, в частности: 1. «Отголоски Сибири». Сборник стихотворений разных авторов… под редакцией Ивана Брута (Томск, 1889); 2. Новый портрет П. П. Ершова, выявленный Е. Симоновым в 1922 г. и описанный им в «листовке» под названием «Новый портрет автора сказки „Конек-Горбунок“ и его ценность»: «Портрет выполнен с карточки, хранящейся у внучки поэта Н. А. Смолевой65. Карточка снята со старинной акварели. Сейчас она воспроизводится на стеклографе пером художником-тоболяком П. П. Чукоминым66. Этот портрет представляет наибольшую, в сравнении с охарактеризованными, ценность, почему должен быть распространен по всей читающей России»67; 3. Иллюстрации А. Ф. Афанасьева к «Коньку-Горбунку»68; 4. Памятник Ершову в Тобольске69; 5. Портрет К. И. Тимковского (из собрания Пушкинского Дома); сонет Ершова «Смерть Ермака» (по автографу Пушкинского Дома) (61–62; 11–11 об.).
Состав иллюстраций, как видно, значительно отличался от иллюстративного ряда, предложенного в 1940 г. новосибирскому издательству.
И наконец, для тома в «Большой серии» М. К. существенно доработал свою статью. Новая редакция, в два раза превышающая вступительную статью к «Стихотворениям» 1936 г. (и ее расширенный вариант в сборнике 1938 г.), содержала ряд дополнительных сведений о самом Ершове, его окружении (К. Тимковский, К. Волицкий) и современной ему литературной ситуации. Задача, которую ставил перед собой М. К., – очертить путь Ершова-поэта и определить его место в русской литературе 1830–1850‑х гг. – была выполнена. Освобожденная от социологической лексики 1930‑х гг., написанная легко и логично, с учетом новейших научных трудов, естественно соединяющая частные биографические факты с широкими историко-литературными экскурсами, статья завершала собой многолетнюю работу М. К. над ершовским наследием.
Рукопись была направлена рецензентам. Первым из них был Б. Я. Бухштаб, высоко оценивший труд М. К., высказавший, однако, ряд частных замечаний, например – сомнение в том, что составитель, как и ранее, отдал предпочтение четвертому варианту «Конька-Горбунка» с приложением первого (76–3; дата рецензии: 27 мая 1948 г.). Другой отзыв принадлежал Л. А. Плоткину, который требовал сократить раздел «Стихотворения» и переделать вступительную статью: «подробней рассказать о последнем этапе жизни Ершова» и «перенести акцент с окружения и генезиса на анализ самой творческой деятельности поэта» (80–17). Не удовольствовавшись этими двумя отзывами, редакция обратилась к третьему рецензенту – им оказался писатель И. А. Груздев (1892–1960), в то время ответственный редактор журнала «Звезда». Одобривший статью в целом, хотя и упрекнувший автора в «стилистической небрежности»70, рецензент также усомнился в правомерности публикации Ершова по четвертому изданию и высказал дополнительно ряд мелких замечаний, против которых М. К. оставил на полях краткую помету: «Вздор!» (77–5).
Рецензия Груздева датирована октябрем 1948 г. Вынужденный доработать рукопись «в связи с замечаниями рецензентов», М. К. вносит в нее ряд изменений и в начале 1949 г. возвращает свой труд в редакцию «Библиотеки поэта», в то время еще не отказавшуюся от издания «Поэм и стихотворений». А. Г. Островский писал М. К. 4 марта 1949 г.:
Просмотрев присланную Вами рукопись П. П. Ершова, мы вынуждены вернуть ее для приведения в пригодный для набора вид согласно п<ункту> 2 договора <…>. Несмотря на то что рукопись не вошла в план текущего года, она может нам понадобиться в ближайшее время; поэтому просим представить рукопись в течение ближайших двух недель (61–62, 2).
Таким образом, еще в начале марта 1949 г. рукопись считалась «одобренной», и издательство «Советский писатель» надеялось выпустить ее в 1950 г. Однако именно в течение марта ситуация коренным образом изменилась (см. главу XXXVII), и уже 28 марта Л. В. сообщала В. Ю. Крупянской: «…очевидно, приготовленный для „Библ<иотеки> Поэта“ большой Ершов в производство не пойдет». Этот удар (один из многих в ряду «ударов» 1949 г.) М. К. переживал c болью и горечью. «…Жаль, что подготовленный мною том Ершова для „Библиотеки поэта“ света, конечно, не увидит…» – сокрушался он в письме к Крупянской 3 октября 1949 г.71 А 14 января 1950 г. пишет (ей же) с горькой иронией:
…«Б<иблиоте>ка поэта» любезно вернула мне рукопись «Стихотворений Ершова» и не менее любезно известила о расторжении договора. Я с не меньшей любезностью просил уплатить мне целиком все, что причитается по договору. <…> На этом пока временно обмен любезностями прекратился, – и продолжение, вероятно, будет в суде.
Но до суда, разумеется, не дошло.
После смерти М. К., во второй половине 1950‑х гг., Л. В. подняла вопрос о новом издании Ершова. Интерес к этому предложению проявила обновленная редакция «Библиотеки поэта», возглавляемая тогда В. Н. Орловым (первым заместителем был И. Г. Ямпольский); из ленинградцев в редколлегию входили также В. М. Жирмунский, В. Г. Базанов72 и благоволивший к М. К. поэт А. А. Прокофьев. Ознакомившись с сохранившейся рукописью, редколлегия приняла решение: издать «Конька-Горбунка» и ряд стихотворений Ершова в «Малой серии», открыв книжку вступительной статьей М. К. в редакции 1948–1949 гг.; издание же однотомника – в том виде, как его подготовил М. К. в 1947–1948 гг., – было признано нецелесообразным. Л. В. согласилась с этим коллективным решением: публикация статьи о Ершове воспринималась ею как своего рода «прорыв» – важный шаг на пути возвращения М. К. в отечественную науку.
Томик П. П. Ершова под названием «Конек-Горбунок. Стихотворения» был выпущен в конце 1961 г.73 Издание редактировал Б. Я. Бухштаб, знаток и исследователь русской поэзии (в частности, творчества Ершова) и друг семьи Азадовских. В издание вошли «Конек-Горбунок» (пятая редакция 1861 г.) и восемь стихотворений (в основном те же, что и в издании 1936 г.). На титульном листе значится: «Вступительная статья, подготовка текста и примечания М. К. Азадовского»74.
В книгу вошла, таким образом, лишь незначительная часть того, что было подготовлено для «Большой серии» «Библиотеки поэта», не говоря уже о том, что издание в «Малой серии» появилось посмертно. Уходя из жизни, М. К. был уверен, что его огромный пятнадцатилетний труд (1933–1948), посвященный Ершову, раздробился и осуществлен лишь в незначительной степени.
Научное издание произведений Ершова в «Большой серии» «Библиотеки поэта» появилось спустя двадцать с лишним лет после смерти М. К.75 В откликах на это издание неизменно отмечались – как несомненный успех составителя – 9 впервые публикуемых стихотворений и 16 эпиграмм. Действительно, эти тексты были обнаружены и введены в научный оборот Д. М. Климовой. Однако, исторической правоты ради, требовалось, на наш взгляд, сделать существенное уточнение. Почти все новые стихотворения и эпиграммы Ершова в издании 1976 г. были обнаружены Азадовским еще во второй половине 1930‑х гг. Неизвестно, включил ли их М. К. в новосибирское издание 1940 г., но они присутствуют в материалах к однотомнику 1948–1949 гг. (29–4 и 29–6).
Другие примеры – том произведений Ершова, изданный в Иркутске в 1984 г.76 (наиболее полное к тому времени собрание сочинений автора «Конька-Горбунка»), и более поздние издания Ершова, осуществленные В. П. Зверевым77. Ни в одном из них не упоминается о многолетнем труде М. К.
Не желая ставить под сомнение значимость названных изданий, мы сообщаем об этом лишь для того, чтобы восстановить научный приоритет М. К. Необходимо признать: М. К. был первым, кто еще в начале 1930‑х гг. извлек из небытия ряд стихотворений Ершова (а также его драматические и прозаические произведения, либретто и пр.), пытался соединить их под одной обложкой и был первым их комментатором. Не его вина, что эти издания не состоялись. Издателям и комментаторам Ершова второй половины ХХ в. следовало, приступая к работе, ознакомиться с материалами архива М. К. (доступного с середины 1960‑х гг.) и не спешить с заявлениями о своих «находках». Первооткрыватель и первопубликатор – понятия отнюдь не тождественные.
Глава XXVII. Советский фольклор 1931–1935
Первый год работы М. К. в Институте антропологии и этнографии – при директорстве Н. М. Маторина – видится относительно благополучным. Сотрудничество, начавшееся в Институте по изучению народов СССР, успешно продолжается как в самом институте, так и в редакции «Советской этнографии» (Маторин был в 1931–1934 гг. ответственным редактором журнала). Они часто встречались (тем более что жили по соседству на ул. Герцена). Приятельские отношения связывали Маторина и с Ю. М. Соколовым1.
Однако в декабре 1933 г. Маторин подает заявление об уходе с директорского поста. На его место назначается И. И. Мещанинов2. Тем не менее Маторин – вплоть до своего ареста в ночь со 2 на 3 января 1935 г. —остается сотрудником института.
Этот период отмечен оживлением фольклористической работы – и в Москве, и в Ленинграде. Фольклорная секция Института антропологии и этнографии под руководством М. К. организует экспедиции, поддерживает инициативы «на местах», стимулирует изучение фольклора Гражданской войны, рабочего и городского фольклора… Регулярно проводятся дискуссии и совещания.
Заметным, отчасти переломным, событием для фольклористики начала 1930‑х гг. было однодневное совещание по фольклору; созванное оргкомитетом Союза советских писателей3, оно состоялось в Москве 15 декабря 1933 г. За несколько дней до его начала на страницах «Литературной газеты» появляются две статьи, в которых отразились основные тенденции новой, советской фольклористики. Одна из статей принадлежала Ю. М. Соколову, выдвинувшему на первый план идеологическое и политическое значение фольклора «в эпоху полного переустройства социальных и экономических отношений», его агитационно-пропагандистскую роль. Фольклор, утверждал Соколов, следует рассматривать «как орудие классовой борьбы (и зачастую очень острое) в прошлом и настоящем»4.
На той же странице была помещена и статья М. К. Рассказывая о принципиальных сдвигах в подходе к фольклору и его изучению, он выделил основные направления современной фольклористики: революционный фольклор; народное творчество периода Гражданской войны; фабрично-заводской фольклор. Не обошлось и без публицистического пафоса (хотя и в меньшей степени, нежели в статье Соколова). Собирание и изучение фольклора в настоящее время, подчеркнул М. К., имеет воспитательное значение, это задача общественного порядка, связанная с формированием «нового человека» и «учетом моментов, содействующих росту социалистического строительства или, наоборот, тормозящих его»5.
Основными докладчиками на московском совещании, состоявшемся по инициативе М. Горького6, были ответственный редактор «Литературной газеты» А. А. Болотников (1894–1937; расстрелян) и Ю. М. Соколов, подчеркнувший в своем докладе, что «фольклористика – одна из существеннейших частей литературоведения»7. После них выступил «с кратким докладом» М. К., «развернувший программу ближайших организационных задач в деле развития и „упорядочения“ фольклористических изучений»8. В совещании участвовали также Н. П. Андреев, В. Д. Бонч-Бруевич (предположительно именно тогда состоялось его личное знакомство с М. К.), В. М. Жирмунский, Н. М. Маторин, А. И. Никифоров и др.; со стороны писателей – П. Н. Васильев, С. М. Городецкий, Вс. В. Иванов и др. Был приглашен (и выступал на заключительном «фольклорном вечере») 74-летний онежский сказитель былин Федор Конашков9 (см. илл. 55). Совещание завершилось выбором Центрального бюро, призванного, в частности, создавать филиалы в провинции и направлять их работу. Председателем был избран А. А. Болотников, а в состав постоянного Фольклорного бюро, как бы демонстрируя единство фольклора и литературы, вошли: М. К., В. Д. Бонч-Бруевич, Вс. Иванов, Н. М. Маторин, В. М. Саянов, Ю. М. Соколов и др.
Примечательно отсутствие в этом ряду С. Ф. Ольденбурга, вынужденно отдалившегося после событий 1929 г. от этнографии и краеведения. Назначенный в 1930 г. директором Института востоковедения, возникшего в результате слияния Азиатского музея с другими учреждениями, он посвятил последние годы жизни становлению и совершенствованию этой новой академической структуры. Сергей Федорович пребывал в угнетенном состоянии: аресты ученых и разгром Академии наук подкосили его – по свидетельству современников – и физически, и нравственно.
М. К. пытался сделать все от него зависящее, чтобы поддержать опального академика. Он принял деятельное участие в подготовке его юбилея в 1933 г. (70-летие ученого и 50-летие его научной деятельности), был одним из организаторов юбилейного вечера в Большом конференц-зале Академии наук, состоявшегося 1 февраля 1933 г. Помимо М. К., прочитавшего доклад «С. Ф. Ольденбург и русская фольклористика»10, на торжественном заседании выступали академики и члены-корреспонденты А. П. Карпинский, Н. Я. Марр, И. А. Орбели, Ф. И. Щербатской. Одновременно появилась вторая статья М. К. – «С. Ф. Ольденбург как фольклорист»11. Наконец, именно М. К. инициировал юбилейный сборник (приглашал авторов, переписывался с ними, редактировал поступавшие тексты и т. д.) и лично доставил свежий экземпляр умирающему Ольденбургу. «Днем Азадовский принес ему переплетенный том юбилейного сборника», – записала в дневнике Е. Г. Ольденбург 6 февраля 1934 г.12
В эти последние недели М. К. не раз заходил к Ольденбургу – посидеть у постели умирающего. В заключительной части написанного им некролога сказано:
Я посетил его за три дня до смерти. Я увидел совершенно восковое прозрачное лицо. Уже потух взор живых глаз, уже было слабым его обычно горячее, сухое, нервное пожатие. Но не прошло и пяти минут, как исчезло невольно сковывающее меня ощущение последней встречи. Мы говорили о том, что надо отметить сорокапятилетний юбилей одной далекой сибирской собирательницы13, что необходимо издать записанный ею замечательный сборник сказок14; что необходимо решительно поставить вопрос о расширении академической типографии и т. д. и т. д. <…>
Последние два дня он беспрерывно бредил. В бреду он кому-то доказывал, что нельзя печатать Фирдусси <так!> без комментариев, что Фирдусси нужно печатать тщательно15, жаловался, что типография что-то задерживает… Этот предсмертный бред – нечаянный штрих в облике С<ергея> Ф<едоровича>. Невольно вспоминается образ, который любил применять сам С<ергей> Ф<едорович>, – образ часового на посту, до последней минуты жизни не выпускающего из рук винтовки16.
Впоследствии М. К. хлопотал о том, чтобы издать статьи Ольденбурга по фольклору. В 1936 г. он составил такой сборник, намереваясь снабдить его своей вступительной статьей. Однако общая ситуация и конфликтные отношения с Е. Г. Ольденбург, в те годы неприязненно воспринимавшей М. К.17, послужили препятствием к изданию книги. Сборник не состоялся.
Вскоре после декабрьского совещания началась подготовка к Первому Всесоюзном съезду советских писателей, состоявшемуся в августе 1934 г. В работе съезда принимал участие М. Горький, открывший его продолжительным докладом и завершивший кратким выступлением. Доклад был «установочным»; его отдельные положения, позднее широко растиражированные, будут многократно цитироваться в 1930‑е гг. – не только литераторами, но и фольклористами. Уделявший фольклору особое внимание Горький неоднократно высказывался по вопросам фольклора и, видя в «устном творчестве трудового народа» здоровую основу литературы, поддерживал фольклористические изучения в СССР.
Ю. М. Соколов, читавший лекции в московском Вечернем литературном рабочем университете, созданном в конце 1933 г. (ныне – Литературный институт им. А. М. Горького), сообщал М. К. 17 февраля 1934 г., что «лекции там стенографируются, будут к концу года изданы. А. М. Горький ими интересуется, ему присылается стенограмма каждой лекции» (70–47; 11).
Широчайшее распространение получат впоследствии слова из заключительной речи Горького на Съезде писателей 1 сентября 1934 г.:
…начало искусства слова – в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам, и нам, поэтам и прозаикам Союза. Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего18.
Коснувшись песенного творчества разных народов и упомянув об известных собраниях и собирателях народных песен, Горький сказал:
Старинные, грузинские, украинские песни обладают бесконечным разнообразием музыкальности, и поэтам нашим следовало бы ознакомиться с такими сборниками песен, как, напр<имер>, «Великоросс» Шейна19, как сборник Драгоманова и Кулиша20 и другие этого типа. Я уверен, что такое знакомство послужило бы источником вдохновения для поэтов и музыкантов и что трудовой народ получил бы прекрасные новые песни – подарок, давно заслуженный им. <…> Не следовало бы молодым поэтам нашим брезговать созданием народных песен21.
Эти слова Горького, как и другие его суждения о фольклоре и фольклористике (в письмах, статьях, очерках, заметках, устных выступлениях и т. д.), станут основополагающими для советских ученых. Горький воспринимается в 1930‑е гг. «не только как писатель, но и как теоретик фольклористики»22. Появляется целый ряд работ на тему «Горький и фольклор» (Б. А. Бялика, А. Л. Дымшица, Н. К. Пиксанова и др.). Трудно найти работу какого-нибудь фольклориста 1930‑х гг., не содержащую отсылки к той или иной фразе Горького. (Не являются исключением и работы М. К.)