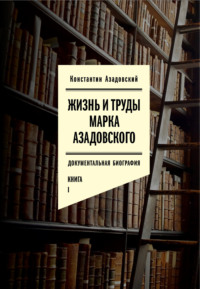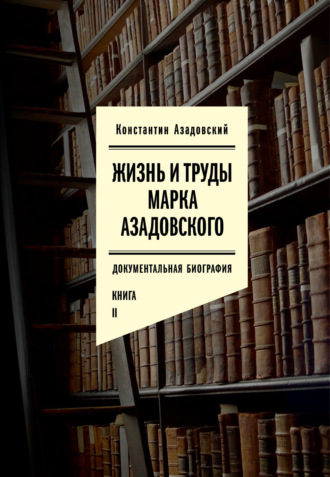
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
В целом же ситуация, сложившаяся после писательского съезда, благоприятствовала фольклорной науке. Сближение фольклора с литературой, официально провозглашенное на страницах центральной печати и подтвержденное совещанием 15 декабря 1933 г., создание Фольклорного бюро или Фольклорной комиссии при Союзе писателей23 и т. д. – все это открывало, казалось, неограниченные возможности для собирателей, исследователей и публикаторов народного творчества. «В „Литгазете“, – писал Ю. М. Соколов 18 октября 1934 г., – читал об издательских планах Академии наук24. И там фольклор… фольклор… фольклор» (70–47; 7).
Внимание к фольклору проявляют ведущие советские журналы. «Вскоре получишь приглашение (как и ряд других ленинградцев) писать статьи по фольклору в ж<урнал> „Лит<ературный> Критик“. Он развертывает большой отдел фольклора. Меня просили помочь в организации его», – сообщает Юрий Матвеевич в Ленинград 11 ноября 1934 г. (70–47; 10 об.)25.
Оживление фольклорной работы в стране не могло не повлиять на статус М. К. – его позиции укрепляются. Помимо руководства Фольклорной секцией в Институте антропологии и этнографии, он принимает ближайшее участие в делах журнала «Советская этнография» – как автор (7 публикаций за 1933–1935 гг.) и как организатор текущей работы.
В этом журнале М. К. публиковался еще в 1926–1927 гг. (рецензии и заметки), однако к началу 1930‑х гг. журнал изменил свой облик: академическая «Этнография», руководимая С. Ф. Ольденбургом, превратилась в боевую «Советскую этнографию». В редакционной заметке, открывавшей первый номер журнала за 1931 г., провозглашалась «задача перестройки этнографического исследования на основе марксистско-ленинского метода и в тесной увязке с социалистическим строительством»26. Редакция переезжает в Ленинград, и журнал становится печатным органом Института антропологии и этнографии, оказавшись, таким образом, в ведении Маторина (редактор) и позднее М. К. (ответственный секретарь с 1933 г.). Переписка М. К. с Ю. М. Соколовым свидетельствует, что Юрий Матвеевич признавал ведущую роль М. К. в этом журнале и воспринимал его именно как редактора и составителя. «Вчера видел в Ц<ентральном> Б<юро> К<раеведения> № 1–2 „Советской Этнографии“, – пишет ему, например, Соколов 28 сентября 1934 г. – Книжка очень содержательная, интересная. Фольклористика представлена богато и разнообразно. Поздравляю тебя с большой удачей» (70–47; 4). И спустя три недели (18 октября 1934 г.) ему же: «„Советскую Этнографию“ сейчас читаю. Опять хорошо. Не ожидал, что так будет богат отдел хроники27. Это очень важно, чтобы знали, что по фольклору действительно идет работа, а не одни разговоры. Отдельно напишу на днях, скорее всего, для „Лит<ературной> Газ<еты>“ или „Сов<етского> краев<едения> “28» (70–47; 6 об. – 7).
В течение 1934 г. М. К. упорно пытается привлечь Ю. М. Соколова к сотрудничеству в журнале; он возвращается к этой теме почти в каждом письме. «Не забудь о тех двух статьях, к<ото>рые ты обещал мне для „Сов<етской> Этн<ографии>“, – напоминает он 3 октября 1934 г. – Фольклор на Съезде писателей – и о провинц<иальных> краеведческих материалах»29. И в письме (ему же) от 12 декабря 1934 г.: «Можно ли рассчитывать для № 3 „Сов<етской> Этн<ографии>“ на статью о Наумане?»30
Дружеские отношения, сложившиеся между М. К. и Ю. М. Соколовым в начале 1930‑х гг., имели огромное значение для судеб советской фольклористики. Собственно, под началом М. К. оказываются в этот период все фольклорные изучения в Ленинграде; аналогичное положение занимает в Москве Ю. М. Соколов. Их постоянное общение, личное и эпистолярное, определяет направление и характер работы двух главных фольклористических центров страны.
Тогда же, в 1934 г., М. К. становится членом Союза писателей.
Постановление от 23 апреля 1932 г., в котором было заявление о создании Союза советских писателей – нового объединения писателей, «поддерживающих платформу советской власти», и решения декабрьской конференции 1933 г., рекомендовавшей рассматривать фольклор как явление литературы, способствовали притоку в писательские ряды профессиональных фольклористов. Вопросами приема занималось Фольклорное бюро при Оргкомитете Союза писателей (М. К. был его членом). Состоявший с 1929 г. в Сибирском союзе писателей, он подал заявление о вступлении в Ленинградское отделение Союза писателей 4 июня 1934 г. и был незамедлительно утвержден31.
Впрочем, не все руководители нового объединения готовы были воспринимать фольклористов как «писателей». Примечателен инцидент с Ю. М. Соколовым, тогда же пытавшимся вступить в Союз писателей. О возникшем конфликте и действиях, им предпринятых, Юрий Матвеевич подробно рассказал М. К. 2 июля 1934 г.:
Неизбрание меня – было для меня совершенной неожиданностью, и не в персональном плане, я страшно был возмущен и озадачен со стороны принципиальной: это же что? Развертывали дело, дали такой мощный толчок местам, особ<енно> нац<иональным> республикам и областям, и вдруг такой реприманд. Это я не мог оставить так. Юдин32 мне объяснил (как и многие другие), что дело не во мне, меня «уважают, ценят и любят», но – дело в принципе, как бы не сдублировать Секцию научных работников. Но ведь ряд литературоведов (далеких от критики совр<еменной> л<итерату>ры) принят. А мы, мне казалось, сумели убедить общественность в значении фольклора для совр<еменной> лит<ературы> и роль фольклора в поэзии масс, и вдруг! Я не стерпел такого непонимания, тем более в головах Оргкомитета, который должен бы быть в курсе дела, и – - – <так в оригинале!> написал горячее письмо Алексею Максимовичу, где ставил вопрос на принципиальную почву. Он высказал (я знаю, через Крючкова33) свое решительное мнение о роли фольклора и фольклористов в литературном движении, и вопрос должен быть решен. Вчера (говорят) было заседание Комиссии Оргкомитета, но решения я не знаю. Завтра, по всей вер<оятности>, будет в газете. Юдин (так говорил Крючков) убедил А<лексе>я Макс<имовича>, что дело не в моей персоне, а в принципиальной стороне: писатели боятся заполонить свой союз ученой братией, у которой есть свое объединение. Но Горький стоял на своем.
Вот видишь, какие дела. Мне было бы очень интересно знать, подавал ли ты заявление или, узнав, как обстояло дело со мною, не подал. Но ты имеешь право и по другой линии, так как ты и издатель Языкова и т. д. Вообще, чепуха! Но я боюсь, что такое отношение к фольклористике в центре может скверно сказаться на периферии. Вот почему я был настойчив (70–47; 1–3).
Обращение к Горькому было в тех условиях естественным и логичным шагом. Оно помогло, видимо, и в данном случае. Ю. М. Соколов стал членом Союза писателей и возглавлял в нем, вплоть до своей смерти, Фольклорную секцию.
С именем Горького связано и создание «Библиотеки поэта».
Эта продолжающаяся поныне серия возникла, как известно, в 1931 г. по инициативе Горького. В редколлегию, которую он возглавил, вошли И. А. Груздев, Б. Л. Пастернак, В. М. Саянов, Н. С. Тихонов и др. Научным редактором был приглашен Ю. Н. Тынянов. Согласно первоначальному плану, сборники должны были печататься в «Издательстве писателей в Ленинграде».
Однако издание «Библиотеки поэта», вызвавшее к себе поначалу общественный интерес, разворачивалось медленно – об этом можно судить, например, по письму Ю. Г. Оксмана к Н. К. Пиксанову от 25 декабря 1931 г.:
Серия «поэтов» под ред<акцией> Горького, о которой много шумели в октябре-ноябре, как будто бы села на мель. Договоров заключено было уже до десятка да раза в два больше предварит<ельных> соглашений, а бумаги дали только на два-три выпуска. Изд<ательст>во требует брони на 25, не желая иначе браться за это дело. У меня заключено два договора, но один я уже расторг из‑за неудобного для меня срока сдачи книжки34.
Первый том «Библиотеки поэта» («Стихотворения» Державина) вышел в мае 1933 г. Он открывался статьей Горького «О „Библиотеке поэта“», во многом и надолго определившей характер и статус этого издания. Тогда же, в 1933 г., Горький выступил с идеей издания особой серии, как бы параллельной «Библиотеке поэта», под названием «Библиотека фольклора». Предварительные разговоры об этом велись, по-видимому, в первой половине лета 1933 г.35, после чего В. М. Саянов, ведавший организационными делами «Библиотеки поэта», официально обратился к М. К. Тот ответил подробным письмом:
В ответ на Ваше обращение вновь подтверждаю свое полное согласие и от своего имени лично, и как руководитель Фольклорной секции в Институте антропологии и этнографии Академии наук, принять всемерное участие в организации серии, посвященной русской песне и эпосу. Вместе с тем и я, и мои товарищи – фольклорные работники, приветствуем инициативу Алексея Максимовича в этом направлении и не можем скрыть своего восхищения перед той необычайной чуткостью, с которой он всегда умеет выдвигать назревшие проблемы. Действительно, в плане вплотную вставших перед советской общественностью задач усвоения литературного наследия прошлого издание фольклорной серии как дополнение к «Библиотеке поэта» является совершенно необходимым36.
Далее М. К. намечает основные «жанровые группы», по которым, с его точки зрения, должна строиться «Библиотека фольклора» (былины, песня, причитания, частушка и т. д.), подчеркивает первостепенное значение песенного фольклора, намечает возможное его распределение по томам («Бунтарские песни», «Любовная лирика», «Свадебная лирика» и т. д.) и рекомендует возможных авторов-составителей будущих томов: Ю. М. Соколова, В. М. Жирмунского, Е. В. Гиппиуса, З. В. Эвальд, А. М. Астахову, А. Н. Лозанову (четверо последних – сотрудники фольклорной секции Института антропологии и этнографии), Г. С. Виноградова и др.37
Об этом письме Саянов доложил М. Горькому, и тот откликнулся подробным письмом от 13 сентября 1933 г., полностью посвященным будущей серии. «Весьма обрадован – писал, в частности, Горький, – согласием Марка (?) Азадовского организовать работу по изданию материалов нашего фольклора»38. Другими словами, Горький видел в М. К. не только участника, но и руководителя будущей серии. Не случайно упомянут в этом письме и В. Арефьев, о котором Горький, по просьбе М. К., написал в 1928 г. заметку для «Сибирской живой старины».
Ясно сознавая научное значение фольклорной серии, М. К. стал обдумывать ее структуру и программу. Осенью 1933 г., после того как вопрос был согласован в московских инстанциях, он составил для «Издательства писателей в Ленинграде» список первых томов. О содержании этого списка (а также о том, сколь близко к сердцу принимал ученый судьбу будущей серии) можно судить по его письму к Ю. М. Соколову от 18 ноября 1933 г.:
Дорогой Юрий Матвеевич,
очередное мое письмо носит, увы, не такой бодрый характер. Как это у Безыменского в «Комсомолии»: «Цека играет человеком»39. На завтра или послезавтра после моего последнего письма к тебе отправился я к Сорокину40 с планом работы по Фольклорной Серии. Накануне я внимательно проработал весь план: порядок заключения договоров, очередность и т. д. Первыми договорами должны быть <договора> по детскому фольклору41, затем шли гиляцкая поэзия42, песни крепостной России, частушка со Смирновым-Кутачевским43, которому я даже начал было писать письмо. <…>
Но в тот самый день, когда я пришел к Сорокину, за несколько часов до моего прихода, получилась телеграмма из Культурпропа ЦК: «„Библиотека поэта“ передается в „Academi’ю“. Платежи прекратить, никаких новых договоров не заключать».
Остальное тебе ясно. Фактически это означает смерть «Библиотеки» и вместе с тем нашей серии. Кое-что Л. Б. Каменев берет в свой план, – из фольклорной серии он обещал взять готовую уже «Крестьянскую балладу»44. Конечно, на дублирование былин он не пойдет45, ты и сам это понимаешь.
Почему так случилось? Почему вдруг было изменено состоявшееся соглашение, какие подводные камни внезапно обнаружились и о которые разбилась и наша утлая ладья, – не ведаю <…>.
Вот тебе мой печальный рассказ! Что скажешь? Теперь ты хозяин Фольклорной серии: сумеешь сколотить из нее что-либо путное, действуй. Кстати, на своей книжке «Причитания» я сейчас не настаиваю – и если она будет снята с плана, не возражаю, это мне даже выгоднее46. Важнее, чтоб ты устроил книжку Г. С. Виноградова о детском фольклоре47.
Вопрос о многотомной фольклорной серии обсуждался в течение года. В связи с тем, что издание «Библиотеки поэта» перешло в 1934 г. в ведение московского издательства «Советский писатель», созданного вскоре после писательского съезда, осенью 1934 г. М. К. пришлось продолжать переговоры с Ф. М. Левиным, первым его директором. Однако окончательной ясности не наступило вплоть до конца 1934 г. – на серию претендовали и другие издательства. Так, Ю. М. Соколов пытался «пристроить» ее в ГИХЛ, что вызвало раздражение и решительный протест со стороны М. К. (см. его письмо к Ю. М. Соколову от 1 октября 1934 г.48). Юрий Матвеевич ответил подробным письмом от 18 октября 1934 г.:
Не далее как вчера третьего дня <так!> состоялось заседание редакционного совета «Academia». Были тут и Каменев, и Луппол49, и Волгин50. Мне влетело за задержку «Былин» и «Афанасьева»51 (поделом, конечно). Но тут же Каменев сказал, что нельзя при том огромном сейчас общественном внимании к фольклору, которое подогревается – и правильно – фольклористами, рассчитывать, чтобы одна «Academia» справилась с многочисленными предложениями, идущими со всех нац<иональных> республик. Нужно, чтобы и ГИХЛ, и др<угие> издательства об этом позаботились. Необходимо только сговориться о том, чтобы не было параллелизма. Луппол подтвердил, что на <19>35 г. по фольклору намечено издать 4 книжки, а в следующем году, м<ожет> б<ыть>, больше. Когда Эльсберг52 там что-то говорил о том, что теперь Академия Наук тоже будет много издавать, я разъяснил (и Волгин это чмоканьем и кивком головы подтвердил), что характер изданий Ак<адемии> Н<аук> иной – там издаются тексты в подлинниках и в точных прозаических переводах. Что касается Ленинградской Серии б<ывшего> Л<енинградского> Т<оварищест>ва Писателей, то я сослался на твое письмо о серии, что ее намечено сохранить53. Присутствовавший Десницкий54 сказал, что это верно. Но ни с Лупполом, ни с Каменевым никто от «Советск<ого> Писателя» (так называется теперь издательство?), никто не говорил и, во всяком случае, против этой серии никто возражать не будет, наоборот, очень поддержат. Из всего заседания я вынес впечатление, что все признают законность и желательность изданий по фольклору по нескольким руслам. Спроси Оксмана, он был на заседании. Мне очень досадно на то <так!>, что по причинам, от меня не зависящим, я так затянул свои работы. И меня вежливо, но больно ругали. Но за рост внимания к фольклору я радуюсь и горжусь, что и моя «популяризаторская» деятельность не прошла даром. М<ожет> б<ыть>, благодаря этой «популяризации» (в какой-то степени) и многовековые чопорные старушки стали более охотно включать в свои планы книжки по фольклору и так издавать, что иные академики разволновались, не затмит ли устная поэзия первопечатные книги.
А ты все ворчишь! (70–47; 6 об. – 7)
Издание «Библиотеки фольклора» в том виде, как это замышлялось Горьким и виделось поначалу М. К., не состоялось. «Библиотека поэта» была закреплена за «Советским писателем», и дальнейшая работа по отдельным томам фольклорной серии успешно продолжалась в ее рамках. «„Серия“ спасена! – восклицал М. К. в письме к Юрию Матвеевичу 12 декабря 1934 г. – Завтра иду в Издательство договариваться о дальнейшем заключении договоров и о выполнении обязательств по законченным – в частности, и о твоих „Былинах“»55.
Речь шла о томиках «Эпическая поэзия» и «Крестьянская лирика», подготовленных в последующие месяцы под редакцией М. К. Рукописи обеих книг были сданы в сентябре следующего года и вышли в свет почти одновременно в начале 1936 г. в разделе «Русский фольклор». На первом значилось: «Библиотека поэта. Малая серия № 1»; на втором – «Библиотека поэта. Малая серия № 2»56. На их примере можно видеть, как складывался тип изданий «Библиотеки поэта», отличавшихся – даже в «Малой серии» – добротной научной оснащенностью: примечания, библиография по теме (главнейшие публикации былин, исторических песен, крестьянской лирики и причетей), а также – краткие словники («Словарь старинных и областных слов», «Словарь местных и малопонятных слов»).
Первый сборник, подготовленный А. М. Астаховой и Н. П. Андреевым (под редакцией М. К.), открывался предуведомлением «От издательства», содержавшим дальнейший план «Малой серии» (всего 66 выпусков). Фольклор ограничивался в этом списке двумя первыми выпусками, а все дальнейшие сборники «Малой серии» призваны были показать «последовательное развитие русской поэзии от силлабических виршей петровской эпохи до литературы предоктябрьской поры»57.
Отклики на первые фольклорные выпуски «Библиотеки поэта» оказались разноречивыми. Сочувственно отозвался, например, фольклорист Ю. А. Самарин (ученик Ю. М. Соколова)58. Одобрение было высказано и в эмигрантской печати59. Менее доброжелательной была рецензия фольклориста И. П. Дмитракова60. С гневным, чуть ли не обличительным, протестом выступил (в центральной «Правде»!) Корней Чуковский, усмотревший в русских колыбельных песнях и статье Е. В. Гиппиуса… клевету на русскую женщину и выразивший сожаление, что к этому «нехорошему делу» приложил свою руку «такой авторитетный фольклорист, как М. Азадовский»61.
Так начиналась фольклорная серия «Библиотеки поэта». Следующие ее тома выходят (ежегодно) уже в не в «Малой», а в «Большой серии»: «Русская баллада» (изд. подгот. В. И. Чернышевым, вступ. ст. Н. П. Андреева) – в 1936 г.; «Русские плачи» (вступ. ст. Н. П. Андреева и Г. С. Виноградова) – в 1937 г.; «Былины» (изд. подгот. Н. П. Андреев) – в 1938 г. Имя М. К. как редактора отсутствует на титуле этих томов, однако его участие в их подготовке не подлежит сомнению.
Каждый фольклорный том «Библиотеки поэта» представлял собой своего рода антологию – собрание профессионально отобранных и научно обработанных текстов. Наряду с этими томами М. К. видел свою задачу в том, чтобы готовить к изданию научные фольклористические сборники, отражающие уровень и направления современной фольклористики. Первый такой сборник, подготовленный к лету 1933 г., получил название «Советский фольклор». Изданный в 1934 г., он был посвящен исключительно проблемам современного (нового) фольклора.
Идеология «обновления» определяла в СССР уклад жизни почти во всех областях. Строилось новое государство, формировалась новая общность («советский народ»), возникало новое искусство. Старые научные подходы уступали место новой методологии (особенно в области гуманитарных наук).
Появление «нового народа» предполагало и «новый фольклор», что обозначилось уже в 1920‑е гг. Темы и жанры, рожденные в годы революции и Гражданской войны, сказы, притчи и песни, бытующие в современной рабоче-крестьянской среде, – все это никак не напоминало те архаические былины, сказки и плачи, что записывали русские фольклористы накануне 1917 г. Рождался и множился «новый фольклор», призванный отразить «героику» советской эпохи.
Используя это понятие и даже приветствуя появление новых фольклорных форм еще в иркутский период, М. К. в то же время тяготел к традиционному восприятию фольклора и противился, как мы видели, политике его вытеснения из научного обихода. Но уже в начале 1930‑х гг., все более пропитываясь «новой идеологией», он стремится переосмыслить свой «старый» подход, поощряет и стимулирует обращение к новым темам, что определяло, конечно, и работу Фольклорной секции.
Это различие между «старым», «архаическим» фольклором (поэзия деревни) и «новым», возникшим под влиянием революционных процессов (фольклор Гражданской войны, рабочий фольклор, песни о Ленине и т. д.), определенно подчеркивался в «Предисловии» к первому выпуску «Советского фольклора», написанному М. К. Соответственно были обозначены и новые для фольклористики направления работы: изучение фабрично-заводской среды, фольклора «окраин» и таких «современных» жанров, как, например, частушка. Стремясь «актуализировать» фольклористику, М. К. трактует ее в духе времени – как одну из общественных дисциплин, имеющую прямое отношение к «социалистическому строительству». В том же ключе формулирует он и теоретические задачи, стоящие перед фольклористами, «в первую очередь: установление отражения социальной дифференциации в фольклоре и установление – в какой мере он отражает классовую борьбу»62.
Изучение «старого» и «нового» фольклора расширяется в эти годы за счет обращения фольклористов к фольклору «национальных окраин», то есть других народов и национальностей на территории Советского Союза. В конце 1935 г., рассказывая в одном из интервью о работе Фольклорной секции Института антропологии и этнографии, ученый сосредоточил основное внимание именно на этом аспекте:
В ближайшее время выпускается и ряд сборников по национальному фольклору: «Шорский фольклор» (Н. П. Ефремова); «Песни белорусского Полесья» (З. В. Эвальд), «Эскимосский фольклор» (В. Г. Тан-Богораз); «Еврейский фольклор» (С. Д. Магид)63; образцы таджикского, курдского, гурийского, мингрельского фольклора и др. Вся эта огромная работа проводится нами совместно с Институтом народов Севера, Казахстанским, Чувашским, Азербайджанским и другими краевыми институтами64.
Статьи, посвященные революционному (а также национальному: бурят-монгольскому, туркменскому, грузинскому) фольклору, всецело определяют характер первого выпуска «Советского фольклора», тогда как исследования, посвященные фольклору «архаическому», вообще отсутствуют. Этим и отличался образ «новой» советской фольклористики.
18 октября 1934 г. Соколов писал М. К.:
Поздравляю тебя с несомненным успехом. «Советский Фольклор» очень удачная книга. Я под свежим же впечатлением написал рецензию и отвез ее в «Известия». К сожалению, не смог быть у Бухарина и отдал ее в Лит<ературно>-Библиогр<афический> Отдел. <…> Не знаю, напечатают ли. Думаю, что да. Было бы глупо не отметить этой книги (70–47; 5)65.
То же отметил и П. С. Богословский, рецензируя № 1–2 «Советской этнографии» за 1934 г. и первый выпуск «Советского фольклора»:
К чести руководителя академической фольклористической работы проф<ессора> М. К. Азадовского надо сказать, подбор предлагаемых в первую очередь материалов в указанных изданиях сделан с полным знанием дела и с четким представлением стоящих перед советской фольклористикой задач66.
Отвечая на письмо Соколова от 18 октября, М. К. сообщает о своих дальнейших планах. Первоначально он, по-видимому, надеялся осуществить два параллельных издания: тематический «Советский фольклор» и сборники широкого охвата, посвященные фольклору в целом (не только «советскому»). «Как будто мне удалось наши фольклорные сборники превратить в постоянное издание, – пишет он 30 октября 1934 г. – В конце декабря хочу сдать в печать первый выпуск, где будут не только статьи, но и материалы, хроника, библиография, обзоры. Не мыслю № 1 без твоего участия… <…> Напиши, что в ближайшее время можешь предложить для сборников. Рассчитываю на твою статью об исторических песнях»67. «Поздравляю с новыми успехами, – откликается Соколов 11 ноября 1934 г. – с превращением „Сов<етского> фольклора“ в журнал, как об этом было сказано в „Известиях“. Что В. М. Жирмунского привлекли, это очень хорошо. Укрепляет академическую солидность» (70–47; 8).
Дело продвигалось. «№ 1–2 „Фольклора“ уже в производстве, в мае сдаю № 3», – радостно информировал М. К. 15 апреля 1935 г. Юрия Матвеевича68. Однако в этот момент появляются новые издательские возможности, побудившие М. К. изменить характер издания. Готовые к публикации «материалы, хроника, библиография, обзоры» объединяются в том под «апробированным» названием «Советский фольклор», и в нем соединяются, по всей видимости, № 1–2 и № 3 несостоявшегося «Фольклора». На их основе возникает выпуск 2–3 «Советского фольклора». Этот сдвоенный выпуск, согласно выходным данным, был отправлен в набор 3 июля, а подписан к печати 26 декабря 1935 г. Дата «1935» на титульном листе расходится с указанной ниже датой выхода (1936). М. К. обозначен на обороте титула как «ответственный редактор» и один из членов редколлегии, в которую кроме него вошли В. Г. Богораз-Тан, А. А. Бусыгин69, Е. В. Гиппиус, В. М. Жирмунский, Н. Н. Поппе, А. Н. Самойлович.
Сдвоенный выпуск увидит свет в середине 1936 г. В отличие от первого, его содержание далеко выходит за рамки Октябрьской революции и Гражданской войны. Актуальная тема «Фольклор народов СССР» представлена в этом томе лишь одним – из восьми! – разделов. Зато появляются отделы: «Фольклор как исторический источник», «Материалы по истории фольклористики», «Фольклор и литература» и, что важно, «Фольклористика за рубежом». Сохраняя советскую тематику и расставляя «правильные» акценты, М. К. пытается сохранить фольклористику как историческую и международную науку.