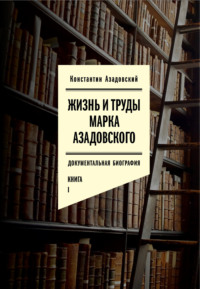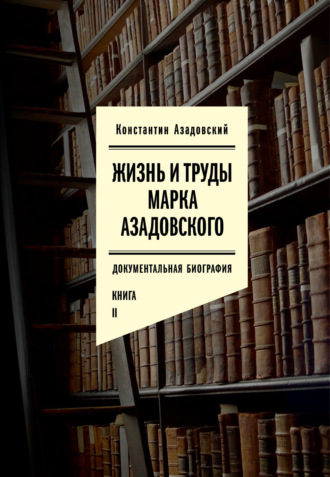
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Вскоре последовали печатные отклики. Один из них принадлежал Н. Ф. Бельчикову. Сосредоточившись на вступительной статье, рецензент отметил, что М. К. «интересно и убедительно снимает с яркой и любопытной фигуры Языкова навешанные на нее историей лохмотья, разрушает по очереди все легенды о Языкове, рисуя подлинно-исторический облик поэта»21. Упоминаются, впрочем, и «досадные промахи»; один из них, по мнению рецензента, заключался в том, что автор статьи «как бы забывает о реакционности» поэзии Языкова22 (упрек этот вряд ли справедлив, поскольку в статье М. К. как раз об этом сказано вполне определенно!).
Появились и критические отзывы. Автором одного из них был библиограф А. А. Тимонич (1888–1961), который ставил под сомнение текстологию, указывал на конкретные ошибки и пропуски в библиографическом разделе, а главное – утверждал, что М. К. не раскрыл свой тезис о Языкове – собирателе народных песен. «Таким образом, – завершал рецензент, – новое издание языковских стихотворений нельзя считать безупречным <…> в нем нет верной, непреувеличенной оценки роли Языкова в русской поэзии»23.
Еще более резко высказался Н. П. Киселев (правда, не в печати, а в частном письме), раздраженно писавший 24 июня 1934 г. историку Я. Л. Барскову:
Вот и Азадовский в Языкове, в общем издание добропорядочное, а в некоторых частностях наворотил такого, что глядеть тошно. Не сумел даже правильно расшифровать имена западников в стихотворении «Не нашим», для чего требуется минимум исторической осведомленности. Таковы наши современные щелкоперы: все определяется фразой: «У меня легкость в мыслях необыкновенная»24.
Раздражение Киселева, оказавшегося как бы оттесненным от языковского издания, нетрудно понять, а его суждение легко опровергнуть. Хлестаковская «легкость в мыслях» не приложима к М. К. ни с какой стороны, будь то издание Языкова или другие работы. Вопрос же о том, против кого из современников направлен языковский стихотворный памфлет «Не нашим», до сих пор не имеет окончательного ответа.
Нам неизвестно, по какой причине не состоялась публикация языковских материалов в «Звеньях». Возможно, по вине самого М. К., принявшего тем временем предложение «Литературного наследства», с которым у него завязалась оживленная переписка.
Это уникальное и ныне всемирно известное многотомное издание, посвященное истории русской литературы и общественной мысли, зародилось в 1931 г. в недрах московского Жургаза (Журнально-газетного объединения), которое возглавлял Михаил Кольцов. В редколлегию «Литературного наследства» вошли И. Ипполит (Ситковский), Л. Авербах и Ф. Раскольников (каждый из них в последующие годы трагически завершит свою жизнь). Первые выпуски «журнала» (так поначалу именовалось «Литературное наследство») появились в 1931 г. и были посвящены таким фигурам, как Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов. Однако, начиная с тома 4–6, приуроченного к юбилею Гёте, преобладающее место занимают историко-культурные материалы – эту ориентацию «Литературное наследство» сохранит и впоследствии (к настоящему времени вышло более ста томов).
Одним из основателей издания был И. С. Зильберштейн, инициатор и редактор большинства томов (в 1930‑е гг. он значится как «заведующий редакцией»). В научный коллектив, осуществлявший в те первые годы издание «Литературного наследства», входили, среди других, С. А. Макашин и И. В. Сергиевский25. Именно с ними у М. К. началась переписка, обернувшаяся в конечном итоге двумя «языковскими» публикациями.
Первое письмо М. К. в редколлегию «Литературного наследства» было адресовано И. С. Зильберштейну. Обращаясь к нему 24 апреля 1932 г. «по старому знакомству»26, М. К. просит ускорить высылку ему первых томов «журнала» и, в частности, сообщает: «Скоро надеюсь прислать Вам реакционную оду против Николая 1-го»27.
Работа над стихотворениями Языкова вплотную подвела М. К. к близкой для него проблеме: «Языков и фольклор». Стремясь подчеркнуть вклад, сделанный Н. М. Языковым и его братом Александром в собрание русских песен П. В. Киреевского, М. К. исследует «фольклорный» аспект, опираясь в первую очередь на переписку Языкова.
Работа над томом стихотворений Языкова была в самом разгаре, когда М. К. получил из редакции «Литературного наследства» следующее письмо:
3/Х – 32
Уважаемый т<оварищ> Азадовский
В настоящее время мы готовим очередной сборник нашего издания, посвященный в основной своей части пушкинской эпохе28.
По имеющимся у нас данным, в Вашем29 распоряжении имеются некоторые текстовые и документальные материалы по Языкову. Может быть, Вы смогли бы уделить из них что-нибудь для нас. Кроме того, не взялись ли бы Вы написать нам обзор литературного наследия Языкова, примерно по тому образцу, по которому написан Салтыковский обзор Макашина, помещенный в 3<-й> книжке нашего журнала30. Для этого обзора мы могли бы дать листа полтора-два с тем, чтобы Вы дали нам рукопись к середине ноября. О прочих подробностях можно было бы договориться по получении Вашего принципиального согласия на это предложение.
Ваш ответ жду в самом спешном порядке.
Уважающий Вас Сергиевский31.
М. К. откликается 20 октября:
Уважаемые товарищи,
я только недавно вернулся из Кисловодска – и потому еще не успел ответить на Ваше письмо. Относительно обзора Языковианы по типу Щедринского обзора, мне думается, – не стоит предпринимать эту работу. Работа эта несложная, тем более для меня, т<ак> к<ак>, по существу, все это уже мной сделано. Но материал так беден, так малопринципиален, что не стоит выделения особой статьей. Не о чем, по существу, писать! Другое дело – стихотворения Языкова, впервые публикуемые. Они также не первоклассны по интересу, но, конечно, и не неинтересны, одно, напр<имер>, имеет определенный общественный смысл: послание к Маркевичу (украинскому обществ<енному> деятелю, националисту-украинофилу)32, есть новые студенческие песни, кое-что из эротики и т. д. Если это интересует редакцию, я могу сделать. В предисловии можно дать краткий очерк о изученности Языкова. Но все дело в том: когда предполагается пушкинский номер? Мой Языков в «Academia» стоит в издательском плане на апрель–май. Принимая во внимание обычные темпы «Academi’и», можно смело приплюснуть пару месяцев – ну а вдруг?
Учтите и это обстоятельство!
По получении от Вас ответа с точным указанием срока сдачи материала – начну работать33.
Редакция «Литературного наследства» (в чьем лице, неясно) ответила М. К. письмом от 27 октября:
Уважаемый т<оварищ> Азадовский
Пушкинский сборник нашего издания34 мы строим с таким расчетом, чтобы не позднее 1 декабря закончить сдачу его в набор. И не позднее 1 февраля выпустить в свет. Таким образом, нечего опасаться, что он выйдет только тогда, когда уже появится в свет Ваше собрание стихотворений Языкова в «Академии». Поэтому, подтверждая, что имеющиеся в Вашем распоряжении неизданные стихотворные тексты Языкова представляют для нас безусловный интерес, буду просить Вас немедленно засесть за их подготовку для нашего пушкинского сборника. Публикация Ваша должна, на мой взгляд, составляться из следующих элементов: 1. Вступительная заметка, в которую Вы включите тот материал по языковской историографии, который Вы знаете, но который, по вашему мнению, не заслуживает того, чтобы посвятить ему специальный обзор; 2. Тексты. 3. Комментарий. Был бы признателен Вам, если бы <Вы> несколько подробнее охарактеризовали самый состав намечаемых к опубликованию текстов. Разумеется, не откладывая работы по их подготовке к печати и комментированию. Стоит ли включать в подборку эротические стихотворения? Напишите также примерный объем публикации. Ждем ее мы не позднее середины ноября, ибо, повторяю, к 1 декабря мы должны закончить редакционную обработку всего материала и пустить его в производство35.
Таким образом, осенью 1932 г. между М. К. и «Литературным наследством» была достигнута договоренность о том, что он представит для публикации тексты неизвестных стихотворений Языкова, а также – «материал по языковской историографии» (истории изучения творчества). К началу 1933 г. этот план уточнился: М. К. обязался подготовить весь «блок» – стихотворения, письма и обзор литературного наследия Языкова.
Почти месяц спустя М. К. – он еще продолжал готовить том стихов и, видимо, не приступил к работе для «Литературного наследства» – неожиданно получил из редакции (от кого именно, неясно)36 следующее письмо:
20‑го ноября 1932 г.
Уважаемый Марк Константинович.
К нам в редакцию поступило предложение приобрести две тетради, по догадке их владельца, писаные Языковым. Находятся они вне Москвы, так что непосредственно я ознакомиться с ними не могу, а владелец их сообщает о них следующее:
Тетради эти принадлежали раньше родной племяннице Языкова Наталии Петровне Надеждиной, урожд<енной> Бестужевой. На обороте последней страницы одной из них имеется карандашная надпись «Семевскому». Видимо, с Семевским шли какие-то переговоры об этих тетрадях, но поскольку тетради все же ему переданы не были, постольку владелец их предполагает, что материал этот не опубликован.
Из дальнейшего описания обеих тетрадей становилось ясно, что они имеют к Языкову лишь опосредованное отношение. Так, в первой тетради содержался черновик письма, написанного в Дерпте в 1826 г. неизвестным автором с обещанием прислать стихи – «для вкуса изящного»; во второй упоминались Аксаковы, Киреевские, Грановский, Хомяков, Самарин, Гоголь и могила Пушкина. «Полагаю, что для Вас как редактора собрания сочинений Языкова все это должно быть небезынтересно», – этими словами завершалось письмо из «Литературного наследства»37.
С владелицей обеих тетрадей была достигнута в конце концов договоренность о праве публикации, однако М. К., судя по его статьям, этим материалом не воспользовался.
Тем временем редакция «Литературного наследства», надеясь включить языковские материалы в пушкинский том, торопила М. К.; 16 января 1933 г. С. А. Макашин (или, возможно, И. В. Сергиевский) пишет:
Уважаемый Марк Константинович
С самого Вашего отъезда отсюда38 мы не имеем от Вас никаких вестей, ни о Вашей публикации, ни о Вашем обзоре. Удалось ли Вам наметить в эпистолярном наследии Языкова такую цельную группу писем, на основе которой можно было бы сделать специальную публикацию. Во время наших устных переговоров, мне помнится, Вы говорили, что могли бы сделать переписку Языкова с Киреевским. Как обстоит сейчас это дело? Иван Никанорович Розанов письма Языкова к Чижову для нас почти уже закончил39. Как будто бы какая-то часть этих писем находится в Ленинграде в ИРЛИ. Если это верно, то, может быть, Вас не затруднило бы войти в сношение с Рейсером40 относительно их копировки и пересылки копий нам. Но все это, впрочем, вопрос особый, а в первую очередь нас интересует судьба обзора литературного наследия Языкова. И. С. Зильберштейн говорил мне, что этот обзор Вы обещали нам совершенно твердо. Если так, то когда же мы можем рассчитывать на его получение. 1 февраля мы приступаем к сдаче в набор пушкинского сборника безусловно. Серьезно прошу Вас учесть этот срок при планировании Вашей работы41.
В конце января 1933 г. М. К. сообщает в «Литературное наследство», что отобрал письма и предполагает публиковать их под заглавием «Переписка Н. М. Языкова с В. Д. Комовским». А для «обзора» М. К. предложил название: «Языковиана (литературное наследство Языкова)». В том же письме М. К. жалуется: «…вот уже чуть ли не с месяц застопорилась перепечатка текстов, подобранных мною для печати, из‑за отсутствия бумаги»42. К середине февраля 1933 г. проблему с бумагой удалось решить, однако продвижение тома в «Academia» затягивалось.
Работа замедлялась еще и потому, что М. К. намеревался сверить тексты, публикуемые в «Литературном наследстве», с теми же текстами в «Полном собрании сочинений»; задерживалась и корректура из «Academia» (по техническим причинам). Тем не менее к весне 1933 г. все было готово. 1 апреля 1933 г. М. К. информирует Илью Зильберштейна:
С моим Языковым дело обстоит так. Оказывается, «Academia» заключила новый договор с «Печатным Двором», где определены новые сроки выпуска изданий. Языков отнесен на ноябрь, другими словами, раньше января и нечего рассчитывать на его выход. Поэтому нет оснований опасаться совпадений и проч., и я позволил себе несколько усилить стихотворные примеры в «Обзоре», который вообще очень скромен по размерам: максимум – 2 авторских листа, вернее, 1¾. «Обзор» ожидаю завтра или послезавтра получить от машинистки – и дней через 5 вышлю его Вам. <…>
Сегодня, вероятно, вместе с Рейсером займемся отбором и подбором иллюстративного материала43.
Публикация писем П. В. Киреевского к Языкову состоялась трижды: в первом и втором номерах «Известий Академии наук СССР (Отделение литературы и языка)» за 1935 г.44; как отдельный выпуск «Трудов Института антропологии, этнографии и археологии» (Т. 1, вып. 4); и в сборнике «Литература и фольклор» (1938). Первые две публикации, следовавшие непосредственно одна за другой, полностью идентичны, тогда как последняя редакция, появившаяся под заглавием «Киреевский и Языков», представляет собой сокращенный вариант (по отношению к предыдущей) – этого требовали объем и структура сборника, как и некоторые внешние обстоятельства45.
Вступительная статья к этой публикации называлась «Письма Киреевского к Языкову как памятник истории русской фольклористики», и есть все основания полагать, что ученый уже тогда задумывался о создании серии историографических очерков, посвященных изучению фольклора в России. Работа над письмами Киреевского, с именем которого М. К. связывал зарождение в России научной фольклористики, безусловно, стимулировала этот замысел. Это подтверждается и подзаголовком работы в сборнике «Литература и фольклор»: «Страница из истории русской фольклористики».
Опубликованные М. К. письма Петра Киреевского к Языкову занимают, судя по частоте отсылок, заметное место в современных фольклористических исследованиях. Особо следует отметить изданный в 1968 г. 79‑й том «Литературного наследства» («Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского»). В его основу легли вновь найденные в конце 1950‑х гг. фольклористом П. Д. Уховым (1914–1962) неизвестные ранее части архива Киреевского. Об Азадовском как первом исследователе фольклоризма Языкова и публикатора писем Киреевского к Языкову упоминается на страницах этого тома неоднократно – уважительно, хотя подчас полемически. Приведем следующий пассаж:
Основные работы о фольклоризме Языкова принадлежат М. К. Азадовскому, которого интересовало главным образом участие поэта в Собрании песен Киреевского. Азадовский первый среди советских фольклористов обратился к изучению архива Языковых, опубликовав ряд ценных документов. Однако дальнейшее изучение этого архива и рукописного наследия Киреевского привело к пересмотру некоторых гипотез, выдвинутых Азадовским, в частности, вопроса о начале собирательской деятельности Киреевского и роли Языкова…46
Том «Литературного наследства», для которого М. К. готовил две языковские публикации, вышел поздней осенью 1935 г. и представлял собой собрание разных по содержанию работ и соцветие научных имен (среди них, помимо М. К., – И. Я. Айзеншток, Н. К. Гудзий, В. А. Десницкий, Б. П. Козьмин, Д. Мирский (Д. П. Святополк-Мирский), И. Н. Розанов, Д. И. Шаховской, Б. М. Эйхенбаум и др.). «Обзор», о котором шла речь, появился под названием «Судьба литературного наследства Н. М. Языкова» – это название принадлежало редакции «Литературного наследства» (см. выше письмо С. А. Макашина к М. К. от 16 января 1933 г., где уже встречается эта формулировка).
«Обзор» был завершен еще до того, как вышел том в «Academia», – это видно из приведенной выше переписки М. К. с редакторами «Литературного наследства». Статья воссоздает историю прижизненных и посмертных публикаций Языкова (стихов и писем), сообщает подробности, связанные с исчезновением или обнаружением отдельных источников (рукописей, списков, альбомов), затрагивает тему рецепции его творчества в начале ХХ в. (С. Бобров, В. Шершеневич, Н. Асеев), повествует о формировании его фонда и призывает к публикации всего языковского архива в Институте русской литературы.
Началом этой масштабной работы может служить вторая публикация М. К. в том же томе «Литературного наследства», помещенная в разделе «Из неизданной переписки Н. М. Языкова» и озаглавленная «Н. М. Языков и В. Д. Комовский. Переписка 1831–1833 гг.»
Василий Дмитриевич Комовский (1803–1851), петербургский чиновник (одно время секретарь Цензурного комитета, позднее – директор канцелярии министра народного просвещения), литератор и переводчик, был приятелем братьев Языковых – Николая и его старшего брата Александра. Именно при участии Комовского осуществилось первое издание стихотворений Языкова (СПб., 1833). Сохранилась его обширная переписка с обоими братьями, ознакомившись с которой М. К. отобрал 69 писем Н. М. Языкова и Комовского за 1831–1833 гг. (период подготовки первого сборника стихотворений). При этом М. К. подчеркнул значение переписки Комовского с Александром Языковым, братом поэта: «Если когда-либо эта переписка будет целиком опубликована, наша историография обогатится вторым „Дневником“ Никитенко»47. (К сожалению, до настоящего времени дело не сдвинулось с места.)
Переписка Н. М. Языкова с Комовским, отражая события русской литературной жизни начала 1830‑х гг., содержит ряд известных имен (писателей, издателей, ученых и др.). Неоднократно упоминается Пушкин. В рамках своей публикации М. К. не стал акцентировать пушкинские фрагменты или объединять их в отдельную работу, ограничившись необходимыми примечаниями. Зато это сделал Сергей Гессен, автор рецензионной заметки в «пушкинском» «Временнике»48 (секретарь этого издания), подчеркнувший значение опубликованной М. К. переписки Н. М. Языкова с Комовским для отечественного пушкиноведения.
Публикации 1934–1935 гг. не стали последним словом ученого в области его занятий Языковым. Еще в процессе подготовки статей для «Литературного наследства» он был привлечен к работе над изданием Языкова в серии «Библиотека поэта». Первое из них – «Стихотворения» Языкова (август-сентябрь 1936) – представляет собой сильно сокращенный вариант издания 1934 г. Разумеется, в текстологическом отношении оно целиком основывается на редакции «Полного собрания…», однако вступительная статья и примечания существенно переработаны. Так, в статье, озаглавленной «Творчество Языкова», четко обозначены основные периоды: Языков – поэт пушкинской эпохи, ранняя поэзия (дерптский период), славянофильство и др. Полностью опущена тема «Языков и фольклор». Что касается «социологического подхода», то он становится менее заметным, хотя отдельные формулировки сохраняются («В процессе борьбы дворянство, переходившее на буржуазные позиции, борясь с классицизмом во всех его проявлениях, пытается создать свою монументальную, гражданственную поэзию»49 и т. п.).
Статья написана с учетом откликов на «Полное собрание стихотворений». Так, М. К. упоминает о «наивном и антиисторическом толковании», которое допустил в своей рецензии А. Тимонич50. Возможно, М. К. знал и о критическом суждении Н. Киселева. Во всяком случае, в примечании к стихотворению «Не нашим» комментатор включил пояснение, раскрывающее, к кому относятся, «по всей вероятности», намеки в этом послании, – к Чаадаеву, Грановскому, Герцену51.
«Стихотворения» в «Малой серии» «Библиотеки поэта» были изданы тиражом 10 500 экземпляров, и уже через несколько лет возник вопрос о переиздании. 22 мая 1939 г. М. К. заключает с издательством «Советский писатель» трудовое соглашение с обязательством представить рукопись «одновременно со вступительной статьей» не позже 1 июля 1939 г. Была ли завершена эта рукопись, неясно. Вероятно, М. К. удалось убедить редколлегию «Библиотеки поэта» в необходимости обновленного издания «Полного собрания стихотворений», поскольку буквально через десять дней, 2 июня 1939 г., он подписывает договор на вступительную статью и примечания к «Полному собранию стихотворений» Языкова. Ученый брал на себя обязательство представить готовую рукопись «не позже 2 апреля 1940 г.» Работа была выполнена, однако началась война; издание не состоялось. «У меня в „Советском писателе“ погибла рукопись второго издания Языкова, – сокрушался М. К. в письме к И. Я. Айзенштоку52 26 марта 1943 г. – так как все текстологические правки были нанесены на печатный текст, то… утешаюсь только тем, что очень еще не скоро встанет вопрос о новом издании» (88–5; 9)53.
Вероятно, в глубине души М. К. сохранял надежду, что рукопись все же сохранилась. В «Библиографии 1944» эта работа значится в рубрике «Сдано в печать». Там же указана и статья о Языкове для шестого тома академической «Истории русской литературы», издание которой началось в 1941 г.54 Однако эта статья, если даже и была написана, в печати не появилась; ее заменили работой другого автора55.
К новому изданию языковских стихотворений М. К. вернулся сразу же после войны. Договорившись с «Советским писателем» и опираясь на сохранившиеся у него материалы, М. К. попытался восстановить довоенное издание. В письме к А. А. Шмакову он сообщает, что должен был приготовить том Языкова для «Большой серии» «Библиотеки поэта» к 1 января 1946 г., но не успел выполнить это обязательство по болезни (письмо от 14 декабря 1945 г.).
Тогда же (т. е. в 1945–1946 гг.) М. К. договаривается с Государственным литературным музеем о том, что во втором полугодии 1946 г. он представит музею брошюру о Н. М. Языкове объемом в два печатных листа. Издание, приуроченное, очевидно, к 100-летию со дня смерти поэта, предполагалось выпустить в 1947 г. в серии (несостоявшейся) «Литературные портреты». В своем письме к М. К. от 8 мая 1946 г. В. Д. Бонч-Бруевич просил письменно сообщить, когда именно «можно надеяться» на получение рукописи (67–14; 4–4 об.). Успел ли М. К. подготовить эту «брошюру», неизвестно.
Зато том, предназначенный для «Библиотеки поэта» (в «Большой серии»), был подготовлен и сдан в начале 1946 г.; и уже летом стали поступать корректуры. Однако на пути этой книги к типографскому станку возникли серьезные препятствия, вызванные идеологическими причинами: содержание, состав, характер комментария и т. п.
Ожидая окончательного решения вопроса о составе языковского «Собрания стихотворений», М. К. сообщал Оксману в начале сентября 1948 г.:
Моего Языкова дают уже чуть ли не шестьдесят четвертому рецензенту – и каждый мудрствует по-особому. Недавно, – уже когда, казалось, все заложено <так!>, – появилось требование пересмотреть в статье главку о славянофилах на предмет их некоторой реабилитации. А то, – оказывается, – я не учел их борьбы за национальное своеобразие, т. е. я это не развернул с должной полнотой, широтой и проч. Я уже отказался наотрез что-либо делать дальше. А Илья Ал<ександрович> Груздев потребовал, чтобы я снял упоминание о «Переписке» Гоголя. Самую цитату (о Языкове) разрешено оставить, но – убрать ссылку на «Выбранные места…» и т. д., т. е. дать цитату без указания источника56. Тянется эта история с Языковым даже не три года, а, по существу, целых 8 лет. Ибо весной 1940 года у меня Изд<ательст>во потребовало, чтобы я снял все выпады против немцев57. Я, конечно, отказался. В пре прошел год, а затем рукопись была разбомблена и т. д.58
Вопрос о славянофилах, которых М. К. не хотел «реабилитировать», а также «выпады против немцев» тормозили движение языковского сборника и в 1940‑м, и в 1947–1948 г. Пришлось даже обратиться в ЦК, откуда поступило «разъяснение» в пользу публикации сомнительных стихотворений. Это явствует из письма М. К. к Г. Ф. Кунгурову от 3 января 1950 г.:
Самое включение стихов «К ненашим» и «К Чаадаеву» <…> произошло с ведома и санкции отдела литературы ЦК, куда я и редактор59 обращались со специальным письмом. А. М. Еголин разъяснил редакции Библ<иотеки> Поэта, что отсутствие этих стихотворений может быть истолковано как лакировка поэта, стремление исказить его облик, зачеркнув отрицательные черты60.
И хотя именно эти стихотворения были опубликованы в полном виде, без вторжений в авторский текст все равно не обошлось. Так, в тексте языковской «Песни» («Из страны, страны далекой…») оказалась изъятой третья строфа:
Благодетельною силойС нами немцев подружилоОткровенное вино;Шумно, пламенно и милоМы гуляем заодно.Эти пять строк заменены многоточиями61.
Итак, стихотворения Языкова под редакцией и с примечаниями М. К. выходили трижды: в 1934, 1936 и 1948 гг. Рассматривая это издания вместе с тремя языковскими публикациями, состоявшимися почти одновременно («Письма П. В. Киреевского к Языкову»; «Переписка Языкова с В. Д. Комовским» и обзорная статья «Судьба литературного наследия Языкова»), нельзя не сделать вывод: работы М. К. о Языкове середины 1930‑х подняли изучение этого поэта на новый уровень и стали своего рода «точкой отсчета» для дальнейшего освоения языковского наследия.