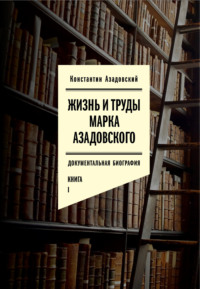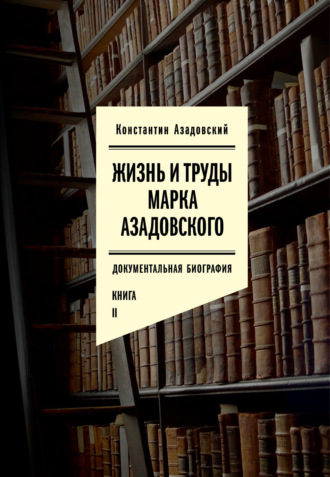
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Несмотря на что М. К. ограничивает, казалось бы, влияние Арины Родионовны на Пушкина (и тем самым роль «русского начала»), его статьи оказались в год пушкинского юбилея весьма востребованными. Дипломатично изложенный М. К. тезис о тяготении Пушкина к западноевропейским источникам вполне соответствовал пафосу, нараставшему вокруг имени поэта; общие слова о величии и мировом значении Пушкина как бы нивелировали ту теоретическую историко-литературную основу, на которой строилась концепция Азадовского. Да и антизападничество еще не приобрело в 1930‑е гг. того воинствующего оттенка, каким оно будет отличаться в послевоенные годы. Даже «Правда» поместила в юбилейные дни 1937 г. статью М. К. «Пушкин и фольклор», где подчеркивалось использование Пушкиным западноевропейских источников, неотделимое от его понимания «народности»68. А в другой центральной газете появляется (в тот же день) вторая статья М. К.69
Апогеем юбилейных публикаций 1937 г., осуществленных М. К., следует считать, однако, не статью в «Правде», а пять пушкинских сказок, красочно изданных в «Academia» летом 1937 г. (их оформили палехские мастера И. М. Баканов, Д. Н. Буторин, И. П. Вакуров, И. И. Голиков и И. И. Зубков). Сказки публиковались по тексту, установленному М. К. в предыдущих изданиях; им же были написаны и краткие хронологические справки.
К сожалению, это издание пушкинских сказок сильно отличалось от того, каким его задумал М. К. Согласно договору, заключенному 25 марта 1934 г., сказки Пушкина предполагалось издать отдельным сборником с научной статьей (до двух печатных листов), обстоятельным комментарием (до двух листов), вариантами и дополнениями (до одного листа). Договор был подписан Л. Б. Каменевым; сроком представления рукописи указывалось 15 декабря 1934 г.70 Однако затем первоначальная договоренность изменилась (в связи с событиями декабря 1934 г.), и достичь ясности долгое время не удавалось.
Эти перипетии отражает письмо М. К. в редакцию издательства «Academia» от 15 апреля 1935 г.:
Вчера я получил Ваше письмо с запросом по поводу «Сказок» Пушкина71. Мне кажется, что здесь какое-то крупное недоразумение. Выходит, как будто задержка и неясность в сроках исходит от меня – между тем, это я вот уже несколько месяцев добиваюсь ясности в этом вопросе от Издательства. И еще, в последний мой приезд в Москву (в феврале) я говорил на эту тему с Я. Е. Эльсбергом, однако вопрос остался открытым и его решение было отложено до следующего моего приезда72.
Я напомню, что установки этого издания менялись несколько раз. То мне предлагали строго придерживаться плана, который был обсужден при договоре и который нашел выражение и в договоре, и в опубликованном проспекте издания, то указывали на необходимость готовить издание в двух планах, то выдвигался проект несколько упрощенного, сравнительно с первоначальным планом, варианта. Каждый раз мне указывалось, что аппаратура научная должна быть как-то увязана с оформлением, – и соответственно этому давались разные указания и задания. Нет смысла удлинять слишком письмо, но <я> мог бы в хронологическом порядке перечислить все проекты данного издания.
Я уже испытал однажды, что значит ломка плана – при издании «Конька-Горбунка»73, и мне не хотелось бы повторять снова этого печального опыта, от которого не выиграло ни издательство, ни редактор.
Я должен сказать, что издание «Сказок» Пушкина является одним из моих любимейших замыслов и я кровно заинтересован в его скорейшей реализации. Но только не хотелось бы делать его в скомканном виде. Нельзя работать над изданием, не зная, какое задумано художественное оформление. Лично я считаю – и такова была установка при заключении договора – что это издание должно быть выдающимся и по своему художественному оформлению, и по литературно-научному. Я, конечно, говорю и говорил раньше не об «альбоме», а о подлинном издании, где все задачи: читательские, академические, художественные находятся в полном соответствии. Но думаю, лучше всего отложить окончательное уточнение этого вопроса до моего приезда в Москву или приезда кого-либо из дирекции Издательства в Ленинград. Что касается моего приезда, то он должен обязательно осуществиться или в конце этого месяца или в начале мая74.
Дело с изданием «Сказок» затягивалось. Тем не менее 16 января 1936 г. редакторы «Academia» Г. Беус75 и Я. Эльсберг информируют М. К. о сдаче в производство отдельного издания «Сказок», одновременно высказывая ряд замечаний по поводу отдельных положений его вводной статьи. В ответном письме от 20 января 1936 г. М. К. сообщает, что обсудил с Ю. Г. Оксманом спорные места и готов пересмотреть свои формулировки. Впрочем, и это не помогло. 9 февраля Беус и Эльсберг сообщают, что принято решение выпускать сказки по отдельности (с иллюстрациями палехских мастеров) и лишь затем – отдельным художественным изданием со статьей М. К. (в исправленном виде) и его же примечаниями76.
В связи с этим издательство поднимает вопрос о расторжении договора, с тем чтобы заключить новый – об отдельных выпусках каждой сказки77. А что касается договора на издание «Сказок» в одном томе (с вводной статьей, комментарием и т. д.), то он, видимо, так и не был заключен: «Academia» близилась к своему краху.
Пушкинская тема не отпускает М. К. до конца 1930‑х гг. «Продолжаю работать над темой „Пушкин и фольклор“, – отвечает он 12 марта 1937 г. на запрос Союза писателей о текущей работе, – книгу в целом надеюсь закончить в начале будущего года»78. Осуществить этот замысел, однако, не удалось – пришлось заняться сборником «Литература и фольклор», куда вошли (в доработанном виде) три «пушкинских» статьи. Отвлекали и мелкие публицистические заметки, выполненные (скорее по необходимости) в юбилейном году, а также мелкие и, казалось бы, случайные темы.
Одной из таких работ была рецензия на книгу фольклориста А. Желанского «Сказки Пушкина в народном стиле» (М., 1936). Изданная с претенциозным подзаголовком «Опыт исследования по рукописям поэта», эта небольшая книжка сразу привлекла к себе внимание специалистов. Рецензии на нее появлялись под заголовками «Глупейшие фокусы под видом литературных изысканий» (М. Шахнович)79 или «Вульгаризатор в роли исследователя» (Э. Гофман)80. Посвятив разбору книги Желанского рецензию в несколько страниц, М. К. едко высмеял «проявления самого безудержного примитивно-вульгарного социологизма», коими отличалась эта работа, и подчеркнул плохое знание автором фольклорных источников («в фольклорном материале он разбирается очень слабо и делает беспрерывные ошибки»)81. Вместе с тем, стремясь к объективности, М. К. не забывает упомянуть и об «интересных наблюдениях» Желанского, касающихся «фольклорных отражений» в творчестве Пушкина82.
Особого упоминания заслуживает заметка М. К. «Руставели в стихах Пушкина». Обратившись к стихотворению Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов…» (1828), впервые опубликованному П. Е. Щеголевым в 1911 г., М. К. высказывает догадку: «…не о Руставели ли говорит здесь Пушкин? О каком другом поэте Кавказа мог бы он говорить в таких выражениях?»83 (речь идет о «поэте той чудной стороны», сопоставленном у Пушкина с Саади).
Публикация встретила восторженную оценку со стороны ведущих пушкинистов. М. А. Цявловский откликнулся 13 июня 1938 г.:
Получение Вашей статьи о Руставели у Пушкина – было для меня неожиданностью <…>. Изо всех сил кричу Вам: «Браво, брависсимо!» Ваше предположение, думаю, бесспорно, и потому открытие Ваше – первостепенного значения.
Но что за чудо из чудес наш ни с кем несравненный Пушкин!
Спасибо Вам за ценный подарок для пушкиноведения!
О том, что Пушкин знал работу Болховитинова84, можно (и будут) спорить. Нужно искать другие источники (м<ожет> б<ыть>, и не русские), не говоря уже о том, что Пушкин мог знать о Руставели и из бесед с кем-нибудь (72–42; 1–1 об.).
В той же тональности выдержана и приписка к письму Цявловского, сделанная его женой (пушкинисткой) Т. Г. Зенгер:
С большим волнением читали мы Вашу статью и радовались за Пушкина, за Руставели и за Вас. Как хорошо Вы поняли эти чудеснейшие стихи Пушкина! Какая радость, когда открываются загадочные места у Пушкина, а сколько их еще остается… (72–42; 2–2 об.)
М. К. ответил 15 июня 1938 г.:
Многоуважаемый Мстислав Александрович,
Я чрезвычайно тронут Вашим и Татьяны Григорьевны письмом и отношением. Большое спасибо за тот сердечный отклик, который вызывал у Вас мой небольшой этюд.
Вы, конечно, правы, что вопрос о Болховитинове спорен, – но мне было важно найти материалы, которые вскрывали бы, что имя Руставели для современников Пушкина уже в какой-то мере существовало, что оно как-то, в той или иной степени, жило в сознании культурной части общества. Самому мне более вероятным кажется, что можно будет отыскать какие-либо французские источники, самое же главное, если принять правильной датировку 1829 г. (а мне кажется, ее необходимо принять), – встречи и разговоры с грузинской интеллигенцией в Тифлисе во время Арзрумского путешествия.
Сейчас этой статьей очень заинтересовались грузины и готовят ее перевод на грузинский язык85. М<ожет> б<ыть>, откроют что-либо дополнительно архивные и литературные поиски там.
Из пушкинистов, отзывы к<ото>рых я слышал до сих пор, Вы и Татьяна Григорьевна первые, кто так решительно меня поддержал, – отчасти, пожалуй, еще Томашевский. Остальные отделываются замечаниями: «остроумно», «интересно», «но» и т. д.
Было бы очень приятно, если бы Вы как-нибудь высказались в печати по этому поводу86.
Напечатав статью о Руставели и Пушкине, М. К., по обыкновению, продолжал ее дорабатывать. 27 мая 1939 г. он представил ее в виде доклада на очередном заседании Пушкинской комиссии. А летом 1940 г., сообщая М. Я. Чиковани, что эта статья, обогащенная новыми материалами, «разрослась почти вдвое», предлагал издать ее отдельной брошюрой. «Статья, правда, небольшая, – уточнял М. К., – со всеми приложениями не более 1,5 л., в изящном переплете, с иллюстрациями могло бы получиться изящное издание. Что Вы об этом думаете?»87 Издание не состоялось. Тем не менее трехстраничный «этюд» 1938 г. оказался поводом для оживленной полемики, затянувшейся буквально до наших дней.
В обсуждении доклада М. К. принимал участие Н. В. Измайлов, предложивший свою гипотезу, согласно которой «поэтом чудной стороны» является не Руставели, а Мицкевич. Догадку Измайлова подхватил Д. Д. Благой. Отталкиваясь от устного выступления Н. В. Измайлова, он подробно изложил его точку зрения в своей статье «Мицкевич в России», где привел дополнительный аргумент: «Наличие перевода одного из сонетов Мицкевича на персидский язык, как и подобного предисловия от переводчика, думается мне, – окончательно решает вопрос в пользу того, что в загадочных стихах Пушкина имеется в виду именно Мицкевич»88.
Опубликовать свою точку зрения Измайлову удалось лишь в 1952 г.89 (окончательный вариант появится значительно позже90). Его обстоятельная, глубоко фундированная работа утвердила версию о Мицкевиче как неназванном «поэте», которого имел в виду Пушкин. Во всяком случае, Б. В. Томашевский и другие пушкинисты придерживались трактовки Измайлова.
Тем не менее статья М. К. была перепечатана (уже после его смерти) в грузинском сборнике91.
Вскоре появилась и третья гипотеза, согласно которой Пушкин зашифровал в своем стихотворении не Руставели и не Мицкевича, а самого Саади92.
К дискуссии вокруг этого стихотворения пушкинистов вернула недавняя статья В. Есипова. Сопоставив доводы Азадовского, Измайлова и Нольмана, автор пришел к выводу, что версия М. К. «представляется наиболее правдоподобной»93.
Такова история многолетней дискуссии. При этом, напомним, окончательная, обогащенная дополнительными аргументами редакция статьи М. К. осталась неопубликованной.
К пушкинской теме М. К. обращается еще раз в конце 1930‑х гг. в связи с локальным сюжетом, имеющем, однако, прямое отношение к проблеме «Пушкин и фольклор». Ученого заинтересовала сказка «О Георгии Храбром и о волке», которую Пушкин в 1833 г. рассказал в Оренбурге В. И. Далю, а тот опубликовал ее вскоре в смирдинском альманахе «Новоселье». Благодаря этой публикации сказка получила известность на Западе.
Отталкиваясь от предположения, что Даль воспроизвел сказку именно в том виде, как она была рассказана Пушкиным (т. е. с использованием ряда татарских слов и упоминаниями о татарских обрядах), М. К. высказал мысль о знакомстве поэта с калмыцким фольклором. Пушкин, по мнению М. К., мог слышать эту сказку «от татарина, говорящего по-русски, может быть, даже калмыка»94. Этот момент был важен для М. К. как веское доказательство пушкинского интереса не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов «многонациональной страны».
О последней пушкиноведческой работе М. К., посвященной посланию поэта в Сибирь («Во глубине сибирских руд…»), будет сказано в главе XL.
Глава XXV. Языков
Пушкинистика не ограничивается Пушкиным – она предполагает знание эпохи, в которую жил и творил поэт, его окружения, общества, литературных соратников или недругов.
Интерес к «пушкинской плеяде» возник у М. К. в 1910‑е гг., чему способствовало опять-таки знакомство с Б. Л. Модзалевским и посещение Венгеровского семинария. Этот интерес углубился в 1919–1921 гг. – в аудиториях, университетских коридорах и библиотеке Томского университета, где М. К. слушал лекции Ю. Н. Верховского и вел с ним беседы. Закономерно, что, занявшись в начале 1930‑х гг. фольклоризмом Пушкина, М. К. быстро «приходит» к Языкову, чье имя, как сказано в его вступительной статье к изданию 1934 г., «с полным правом может быть названо, наряду с именем Петра Киреевского, как одного из зачинателей и ревностнейших пропагандистов идеи собирания и издания народного творчества»1.
Работа над Языковым началась, по всей вероятности, в 1931 г. – вскоре после завершения «Русской сказки». Тесно сотрудничая с редакцией «Academia», М. К. заключает с издательством договор на составление тома стихотворений Языкова, вступительную статью и комментарий. Издание предполагалось для серии «Русская литература», которую возглавлял Л. Б. Каменев.
Соглашаясь на эту работу, М. К. безусловно знал, что берет на себя нелегкую задачу. Ему предстояло внимательно изучить богатейшее языковское собрание в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Другим «вызовом», стимулирующим желание М. К. взяться за Языкова, можно считать недостаточную в то время известность этого поэта. Несмотря на ряд изданий и отдельных публикаций языковских стихов и писем в XIX и начале ХХ в., представление о нем, его жизни, взглядах и литературной позиции было весьма расплывчатым. «Среди поэтов пушкинского окружения Языков является наименее исследованным и изученным» – с этой фразы начинается историографический обзор М. К.2, решившегося заполнить этот ощутимый пробел в истории русской литературы.
Подписав издательский договор, М. К. с головой погружается в работу. «…Сейчас гоню изо всех сил Языкова, – сообщает он 5 марта 1932 г. М. П. Алексееву. – Academia представила мне ультиматум: представить все к 1 апрелю <так!>, иначе – разрыв сношений. Пишу, делаю – получается прескверно и преотвратительно». Работа продолжалась, но результаты ее по-прежнему не удовлетворяли М. К. В письме (ему же) от 26 июня 1932 г. он иронизирует:
Языков мой подвигается со скоростью того замечательного животного, которое обгоняло Ахилла. Впрочем, у моей статьи об Языкове и вообще у всей книги есть и другое сходство с Ахиллесом – обилие уязвимых пят, можно даже сказать: сплошная пята. Право, не кокетничаю! Позорная вещь будет – и Ваш друг и приятель С. М. Брейтбург (он же Б. Семенов)3 уничтожит меня. Это теперь сон метье4 (см. «Марксистское искусствознание» за нынешний год5).
В течение полутора лет М. К. изучает языковские материалы в архиве Пушкинского Дома (фонд семьи Языковых), знакомится с осуществленными ранее (впрочем, немногочисленными) публикациями стихов Языкова, изыскивает свидетельства о поэте в других архивах и консультируется с коллегами6. Так, в марте 1931 г. он обменивается информацией об Языкове с Н. О. Лернером («Ваши дополнения получил. Некоторое мне было неизвестно и очень поэтому ценно. Большое спасибо»7). В поисках первого полного издания языковских стихотворений, осуществленного профессором П. М. Перевлесским (1858), М. К. посетил в 1932 г. писателя В. В. Вересаева8. И наконец, пытаясь отыскать альбом и бумаги известного русского дипломата Н. Д. Киселева (1802–1869), приятеля Языкова по Дерптскому университету, он вступает в конце апреля 1933 г. (работа к тому времени была в основном завершена и, видимо, находилась в издательстве) в переписку с Н. П. Киселевым, в руках которого оказались бумаги его деда9. Приводим бо́льшую часть ответного письма от 21 мая 1933 г.:
Глубокоуважаемый Марк Константинович!
Только недавно получил я через Анатолия Николаевича10 Ваше письмо от 29 апреля и, кроме того, сам промедлил ответом. <…> Я очень хотел бы пойти возможно шире навстречу Вашему желанию, ибо весьма ценю и поэта Языкова, и Вашу научную деятельность; новое издание его стихотворений под Вашей редакцией будет большой радостью для любителей литературы и истории. Однако еще 20 февраля я дал В. Д. Бонч-Бруевичу обещание приготовить неизданные тексты Языкова (из разных собраний) для напечатания в сборнике «Звенья». Обещание это меня связывает и лишает возможности немедленно предоставить в Ваше распоряжение имеющиеся у меня точные и полные копии с подлинников, и я думаю поступить вот как: сдавая Бончу-Бруевичу рукопись, ознакомлю его с Вашим письмом и буду просить, чтобы он переслал Вам ее до напечатания «Звеньев». Правда, в этом есть одно затруднение, а именно: чтобы тексты были неизданные, надо, чтобы стихотворения Языкова вышли после. Здесь многое зависит от того, в каком состоянии находится Ваша работа; м<ожет> б<ыть>, такая последовательность получится сама собой.
Если же нет, я был бы готов, при некоторых условиях, выделить стихотворения (ибо останется еще порядочное количество писем Языкова) и перенести их в Ваше издание.
Копия Шенрока11, которую я просмотрел 15 февраля (как только узнал о ее существовании), довольно неисправна и очень неполна: пропущены не только такие эротические пьесы, которые по теперешним условиям вполне можно напечатать, но и пьесы, опубликование которых в «Р<усском> А<рхиве>» было невозможно по причинам политическим и которые имеют особый интерес для характеристики настроений молодого Языкова. Я очень надеюсь, что те и другие пьесы будут включены в Ваше издание; и о результатах разговора с Бончем не премину Вас уведомить (62–50).
Упоминая о «неизданных текстах» Языкова, которые он якобы готовит для «Звеньев», Н. П. Киселев имел в виду прежде всего стихотворения поэта в альбоме и бумагах Н. Д. Киселева и свою преамбулу к ним. Однако его работа была в «Звеньях», видимо, отклонена, рукопись же передана М. К. и сохранилась в его архиве (24–1). Таким образом, ученому удалось использовать материалы Н. Д. Киселева, оказавшиеся в распоряжении его внука12.
Другим источником текстов для тома языковских стихотворений послужили копии записей из альбома Н. Д. Киселева, выполненные в свое время В. И. Шенроком. Его тетрадь, содержавшая эти выписки, оказалась в Государственном литературном музее. Зная о работе М. К. над Языковым, Бонч-Бруевич предложил ему подготовить отдельную публикацию для первого выпуска задуманного им историко-литературного издания «Летопись». Откликаясь на это предложение, М. К. писал Бонч-Бруевичу в начале февраля 1933 г. (письмо не датировано):
Теперь об Языкове. Я очень охотно принимаю Ваше предложение дать кое-что из Шенроковской тетради для «Летописи». Полное собрание Языкова выйдет в свет не раньше июня–июля (если не позже), «Летопись», – видимо, намного раньше. В худшем случае оба издания выйдут почти одновременно, но, думаю, это не так страшно.
Но насколько я сужу по описанию одного из моих друзей13, тетрадь Шенрока интересна, гл<авным> обр<азом>, тем материалом, который войдет в комментарий, – новых текстов не очень много, вернее: совсем мало, но, во всяком случае, все, что может интересовать «Летопись», я охотно сделаю. Но нужно с этим очень спешить, я уже просил издательство «Academia» обратиться к Вам с просьбой о разрешении копирования, что, полагаю, издательство и выполнит.
Было бы очень хорошо, если б Вы сделали распоряжение прислать мне даты сроков, к которым нужно присылать материалы, чтоб они могли попадать (конечно, примерно) в тот или иной номер. <…>
Еще одно; в тетрадке Шенрока есть еще ряд писем к Киселеву; ряд писем к нему же как будто бы есть и в Ленинграде. Это можно будет также (обязательно) сделать для «Летописи»14.
Издание «Летописи» в 1933 г. отложилось, и Бонч-Бруевич предложил М. К. подготовить публикацию для ближайшего тома «Звеньев». М. К. откликается:
Очень охотно выполню все Ваши желания. С большим удовольствием обработаю для «Звеньев» Языкова, если, конечно, только успею к 20‑му февр<аля>, – а это будет зависеть от того, когда я получу переписанные тексты и письма15.
Однако участие М. К. в «Звеньях» так и не состоялось.
«Полное собрание стихотворений» было сдано в набор, согласно выходным данным, в январе 1933 г. (редактором значился Л. Б. Каменев). Сопоставляя эту дату с перепиской, что развернулась между М. К. и Бонч-Бруевичем в феврале 1933 г., можно заключить, что М. К. получил корректурные листы лишь к лету 1933 г.
Характеризуя в своем историографическом обзоре подготовленный им для «Academia» языковский том, М. К. счел нужным отметить:
В новое издание входит все, что входило в прежние издания, и то, что было опубликовано различными исследователями на страницах научных изданий или журналов. Конечно, включен весь доступный редактору рукописный материал, обнаружены некоторые стихи Языкова в старых альманахах и т. д. И все же нужно совершенно определенно заявить, и это издание ни в коем случае не может считаться окончательным ни в смысле критической проверки текста, ни в смысле полноты. <…> Далеко еще не все источники вскрыты и определены, и несомненно еще неоднократно будут всплывать новые языковские находки16.
Вступительная статья М. К. в томе, изданном «Academia», характерна для стилистики 1930‑х гг. Проскальзывают неизбежные для того времени фразы о «буржуазном сознании, которым характеризуется определенная линия в русской литературе и публицистике первой трети XIX века», о «социальной сущности и роли поэзии Языкова», представителе «среднепоместного дворянства», о реакционной идеологии славянофилов и т. д., не говоря уже об отсылках к писаниям Плеханова, Ленина и Луначарского. Вольно или невольно ученый свидетельствовал о своей «марксистской» ориентации, что призваны были подтвердить, например, следующие формулировки: «…орган молодой крепнущей русской буржуазии» (о журнале «Московский телеграф»); «Художественные обобщения Пушкина, вся его лирика теснейшим образом связаны с практикой его класса»; «Лирика Языкова отразила момент расцвета класса и его тяжелой тревоги…»17 и т. д.
Основное место в своей статье М. К. закономерно уделил двум темам: «Языков и славянофильство» и «Языков и фольклор». О «реакционной» идеологии славянофилов, чья философия истории была не чем иным, как «выражением кризиса барщинно-поместного хозяйства»18, говорится в его статье весьма подробно. Слово «реакционный» становится в те годы весьма употребительным в научном лексиконе М. К. Да и сам Языков оценивается им в целом как «реакционный боевой поэт», автор жизнерадостных и свежих стихов, перешедший в 1840‑е гг. «на сторону реакции».
И тем не менее, даже перегруженная «социологизмами», статья М. К. до сих пор подкупает историков русской литературы своим профессиональным мастерством. «Марксистская» терминология, способная шокировать современного читателя, компенсируется глубиной анализа и литературным изяществом, отличающим отдельные страницы статьи. Достаточно вспомнить яркие, на наш взгляд, и точные суждения М. К. о «необычайной стремительности стиховых темпов» Языкова, его «смелости в построении стиха и образа», «буйном и смелом словотворчестве»19 и т. д.
Нельзя не сказать и о новаторском типе издания, которое предложил М. К. «Полное собрание стихотворений» сопровождалось двумя объемными приложениями (стихотворения, посвященные Языкову, и пародии на его стихи); были выделены такие группы, как «Стихотворения неизвестных лет», «Коллективное», «Dubia»20; и наконец – богатый вспомогательный раздел: библиографические материалы, именной и алфавитный указатели и перечень иллюстраций. Вспомогательному аппарату своих изданий М. К., как уже говорилось, уделял особое внимание.
Книга появилась в марте 1934 г. Один из первых экземпляров М. К. подарил помогавшей ему в работе Л. В. – ее имя значится среди 29 «специалистов-литературоведов и сотрудников рукописных и книжных хранилищ», которым автор выразил благодарность. На ту же мысль наводит и дарственная надпись на томе, преподнесенном Л. В. 5 апреля 1934 г. с «сердечным приветом, с благодарностью и некоторой грустью».