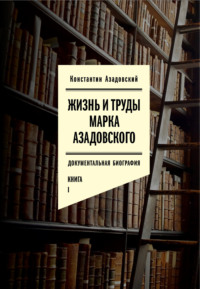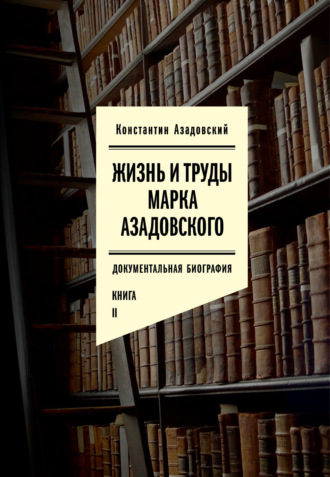
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
О научном значении «Покойнишного воя» идет речь и в статье М. К. «Ленин в фольклоре» (1934), где приведен фрагмент этого причитания (правда, без упоминания о Троцком). Эта статья М. К. известна в трех редакциях: краткой и развернутой. Первая появилась в ежемесячном журнале «Резец», печатном органе Ленинградского отделения Союза советских писателей114; вторая – в московском ежемесячном литературно-художественном, общественно-политическом и научно-популярном журнале «Молодая гвардия», печатном органе ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ115; третья, наиболее подробная, – в сборнике «Памяти Ленина», подготовленном Академией наук (во главе редколлегии стоял Н. И. Бухарин).
Каждая из этих статей воспринимается, на первый взгляд, – благодаря терминологии и формулировкам 1930‑х гг. – как вполне «советская». Так, народные повествования о конце мира, пришествии Антихриста и т. п., распространившиеся в первые послереволюционные годы, М. К. характеризует как «эсхатологический фольклор», выражающий «в основном антиреволюционные настроения кулацких и близких к ним слоев крестьянства, еще не осознавшего своей социальной позиции и шедшего идеологически еще на поводу у контрреволюционных элементов старой деревни»116.
«Ленинские» статьи М. К. полемичны. Автор подвергает анализу и критике ряд советских сборников, в которых собраны легенды, песни и сказания, спекулирующие на имени Ленина, в первую очередь – сборник А. В. Пясковского «Ленин в русской народной сказке и восточной легенде» ([М.], 1930). Этот сборник не мог не привлечь внимания М. К., поскольку завершался отрывком из «Покойнишного воя», причисленного составителем к распространенным «сибирским причитаниям», и невнятным упоминанием о Пушкинском Доме, куда неведомо каким образом попал якобы этот текст. Убедительно, на основании конкретных примеров, М. К. демонстрирует, в какой степени тексты, опубликованные Пясковским, чужды фольклорной традиции. Критически отзывается он и по поводу «подфольклоренного стиля» у таких писателей, как Л. Сейфуллина и Р. Акульшин. Зато крайне удачным представляется ему фольклоризация образа Ленина в четвертой книге «Тихого Дона». «Трудно сказать, – замечает М. К., – передает ли здесь Шолохов какой-нибудь подслушанный и точно им воспроизведенный разговор или эта сцена является всецело его творческой композицией…»117
В качестве подлинных образцов ленинского фольклора названы «Покойнишный вой по Ленине» («Образ Ленина вошел в старую причеть и заставил ее загореться новым светом»118), сказка о золотой утке, записанная в 1926 г. в Саратовской губернии А. Н. Лозановой, и, наконец, сказания и песни, бытующие на Северном Кавказе и в среднеазиатских республиках (Киргизия, Узбекистан). Особое внимание уделено песенным импровизациям частушечного типа (бурятским, марийским, алтайским, киргизским и др.). Ссылаясь на книгу Л. Соловьева «Ленин в творчестве народов Востока» (Л., 1930), М. К. приводит несколько песен, сложенных якобы народными певцами (нельзя не отметить, что некоторые из них производят на современного читателя прямо-таки комическое впечатление):
Когда плавающая по воде лодкаУносится течением – жалко;Когда объединивший народ ЛенинУносится смертью – жалко(бурятская песня)119;Не ищите Ленина в Австралии,Не ищите Ленина в Германии,Не ищите Ленина в Америке,Нигде нет подобного Ленина(киргизская песня)120.Вероятно, желая видеть в фольклоре живое творчество, опирающееся на архаические образцы, но не равнозначное им, М. К. пытался даже в этих безыскусных и малограмотных строчках уловить некую «подлинность» и «первичность», рожденную воображением народного рапсода, а не усилиями литераторов или фольклористов.
Свою статью М. К. завершает такими словами:
Фольклор не создал образа реального Ленина, как вообще фольклор не создает исторических портретов. Фольклор творит легендарные, символические образы. В образах фольклора конкретизируются народные мечты и надежды. Каждая социальная группа имеет свой любимый образ, в котором сконцентрировано ее мировоззрение и ее идеалы. Таковы образы Зигфрида, Роланда, Ильи Муромца в старом эпосе. Центральным образом нового эпоса является образ великого борца революции, золотую легенду о котором беспрестанно ткут многочисленные народные певцы и сказители121.
Апологетический пафос этих строк соответствует общему настроению того времени, когда писалась статья М. К. (1934 г.). Тем более что главным героем народного творчества, как и некоторых фольклористических штудий, становится уже не Ленин, а его «продолжатель». Так, в хрестоматии «Русский фольклор» (1936) Н. П. Андрееву пришлось заключить издание разделами: «Ленин в фольклоре» и «Сталин в фольклоре»; впрочем, уже год спустя первая тема все более оттесняется в работах советских фольклористов на задний план, тогда как вторая становится ведущей.
Хочется отметить, что ни в 1930‑е гг., ни позднее сам М. К. не касался или, вернее, старался избегать темы «Сталин в фольклоре» (сознавая, возможно, ее искусственность), хотя неизбежные для того времени ссылки на «великого и мудрого» постоянно встречаются в его работах и публичных выступлениях (не говоря уже о работах его учеников).
Отдельная и немаловажная глава биографии М. К. – его преподавательская и организационная работа в Ленинградском университете и создание при его непосредственном участии университетской кафедры фольклора.
Открытый в 1918–1919 гг. факультет общественных наук (ФОН), объединивший историко-филологический, восточный и юридический факультеты, а также несколько других структур, существовал в течение первой половины 1920‑х гг.; затем началось дробление. Филологическая его часть образовала в 1925 г. факультет языкознания и истории материальной культуры с несколькими отделениями (западноевропейское, восточноевропейское, историческое, восточное и истории материальной культуры). В 1929 г. этот факультет получил название историко-лингвистического (с тремя отделениями), а в 1930 г., в период очередной реорганизации, превратился в самостоятельный Ленинградский историко-лингвистический институт, а позднее, в 1933 г., – в Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ), состоящий из четырех факультетов – литературного, лингвистического, исторического и философского. В таком виде он существовал до 1935 г. В 1936/37 учебном году от него отделился исторический факультет, затем – философский. Два оставшихся факультета – литературный и лингвистический – также вошли в 1937 г. в состав университета, образовав существующий до настоящего времени филологический факультет; его первым деканом стал академик И. И. Мещанинов.
Таким образом, в 1934 г. – после почти пятилетнего перерыва – М. К., приглашенный в ЛИФЛИ для чтения фольклорного курса, возвращается к преподавательской работе. Этому способствовало его прочное положение в системе Академии наук, включая докторскую степень: после декрета Совнаркома, восстановившего в СССР ученые степени и звания, он получает диплом о присуждении ему ученой степени доктора филологических наук (без защиты диссертации)122.
На литфаке института (впоследствии Ленинградского университета) сложился в середине 1930‑х гг. блестящий профессорско-преподавательский коллектив: П. Н. Берков, В. В. Гиппиус, Г. А. Гуковский, И. П. Еремин, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. С. Орлов, Л. В. Пумпянский, А. П. Рифтин, И. И. Толстой, О. В. Цехновицер, Б. М. Эйхенбаум, И. Г. Ямпольский… Гуковский возглавлял кафедру русской литературы, Жирмунский – кафедру западноевропейских литератур, О. М. Фрейденберг – кафедру классической филологии. Позднее образовалась кафедра этнографии под руководством профессора И. Н. Винникова. Фольклорная группа была представлена М. К. и В. Я. Проппом, читавшими лекции и приучавшими студентов и аспирантов к серьезной научной работе123. Следуя методике, выработанной за годы преподавания в Петрограде, Чите и Иркутске, М. К. уже осенью 1934 г. организует фольклорный кружок для студентов-первокурсников – с тем, чтобы приобщить их к основам библиографии, экспедиционной деятельности, научной работы и т. д.
Лидия Лотман124, поступившая в Институт истории, философии и лингвистики в 1934 г., вспоминает:
Два профессора, преподававших фольклор, придерживались разных точек зрения на анализ фольклорного текста и фольклора как явления культуры. <…> Пропп, который через несколько десятилетий получил мировое признание как основатель структурального подхода к фольклору, изучал модели, стоящие за сюжетом волшебной сказки, и ее происхождение. Азадовский изучал сами тексты, их источники и бытование. Пропп вел у нас два спецкурса: о морфологии и исторических корнях волшебной сказки и о немецкой фольклористике. Оба были очень интересны, но мне казалось, что теория происхождения сказки из ритуала инициации, на которой настаивал Пропп, имеет и свои слабые стороны, свою ограниченность. На первом курсе я активно участвовала в научном фольклорном кружке, организованном Марком Константиновичем Азадовским. Этот кружок был своего рода семинаром, основанном на демократическом принципе: студенты в нем не только выступали, но и участвовали в управлении кружком125.
В созданный М. К. фольклорный кружок, объединивший около 20 студентов, входили, помимо Лидии Лотман, В. Чистов126, А. Кукулевич127, И. Колесницкая128, М. Михайлов129, А. Соймонов130, И. Этина131 и др. – лифлийцы «первого призыва». М. К. предлагал им темы для научной работы (как правило, на стыке фольклора и литературы); студенты готовили доклады, обсуждали их, критиковали друг друга… Летом будущие фольклористы выезжали в экспедиции (на Север и в другие области). О деятельности кружка в 1934–1937 гг. можно судить по нескольким публикациям в институтской газете132, а также по стеклографическому изданию, выпущенному филфаком Ленинградского университета «на правах рукописи». М. К. значится «ответственным редактором» этого выпуска, членами редакции указаны И. Колесницкая и В. Чистов.
Издание открывается предисловием М. К., подчеркнувшего роль сборника и значение научных работ, выполненных его питомцами:
Настоящим сборником мы открываем серию публикаций работ студентов – участников фольклорного кружка. Вместе с тем этот сборник является как бы первым публичным отчетом нашего кружка и первым опытом его трехлетней работы по подготовке молодых кадров – фольклористов. Публикуемые здесь фольклорные материалы являются в основе работами студенческих экспедиций и представляют собою первичные публикации, за которыми, мы надеемся, последуют другие, уже более полные и исчерпывающие; статьи же, по большей части, выросли на основе докладов в семинариях по фольклору, ведшихся за последние два года.
Однако не следует думать, что все эти публикации имеют значение только как показатель студенческих интересов в области фольклора и как свидетельство роста молодых кадров собирателей и исследователей. Отнюдь нет – их значение гораздо шире…133
Приведем перечень мероприятий, осуществленных фольклорным кружком в течение 1934–1937 гг.:
– вечер сказителя-былинщика П. И. Рябинина-Андреева (со вступительным словом М. К.);
– беседы по методике и технике собирания фольклора (их проводила А. М. Астахова);
– выступления аспирантов-фольклористов (Ю. Авалиани, Чужимова, Е. Б. Вирсаладзе);
– Сормовская экспедиция 1935 г.: поездка студенческой группы (Л. Лотман, А. Соймонов, В. Чистов) на завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород, с 1932 г. – Горький));
– доклад А. Л. Дымшица «Маяковский и фольклор»;
– участие «кружковцев» в сборнике «Песни и сказки на Онежском заводе» (Петрозаводск, 1937; вступительная статья к сборнику написана А. Соймоновым);
– выступление сказочника М. М. Коргуева (зима 1936/37 г.); заседание открыл М. К., рассказавший о Коргуеве и его сказках.
Последнее заседание кружка в 1937 г. было посвящено вопросу об издании журнала «Студент-фольклорист» (не состоялось)134.
Фольклорный кружок продолжал свою деятельность вплоть до самой войны. Кирилл Чистов, младший брат В. В. Чистова, впервые посетивший кружок студентом первого курса (1937/38 учебный год), вспоминает:
В конце сентября в первый раз при мне собрался фольклорный кружок – на нем слушались предварительные доклады об экспедициях прошедшего лета. <…> Занятия проходили весьма непринужденно. Доклады начальников отрядов переходили в общую беседу, расспросы. М. К. Азадовский – известный собиратель с большим экспедиционным опытом – в эти годы «в поле» уже не ездил, но надо было видеть, с каким интересом он расспрашивал вернувшихся из экспедиций. Его радовала увлеченность молодежи, и глаза его светились лаской и открытым удовольствием, когда он видел, что записано что-то особенно интересное и записавший смог это оценить135.
Деятельность кружка продолжалась и после образования филологического факультета (1937). Ситуация второй половины 1930‑х гг. благоприятствовала воспитанию молодых фольклористов. Изучение фольклора пользовалось государственной поддержкой, и в этих условиях фольклорная «ячейка», руководимая М. К. и Проппом, естественно превратилась в 1939 г. в кафедру фольклора. Назначенный заведующим, М. К. привлек к работе кафедры своих аспирантов – И. И. Кравченко и А. М. Кукулевича136.
«Кафедра работает в тесном контакте с родственными кафедрами и учреждениями», – говорилось в отчете предвоенного времени (автором был, видимо, сам М. К.). Далее перечислялись различные мероприятия и формы работы: заседания кафедры совместно с другими университетскими кафедрами, приглашение к ее работе других авторитетных фольклористов (Н. П. Андреева, В. П. Петрова, Ю. М. Соколова). Упоминается в отчете и такая характерная для советской эпохи форма работы, как «соцсоревнование с кафедрой фольклора Института философии, литературы и истории в Москве (МИФЛИ)»137.
Тесная и постоянная связь возникла у кафедры фольклора с Карельским научно-исследовательским институтом культуры (КНИИК). Утвердившийся в 1930‑е гг. как самостоятельный центр по сбору и изучению фольклора, он нуждался в фольклористах-профессионалах, и М. К., хорошо понимавший, что значит работа «на месте», охотно поддерживал начинания института и рекомендовал его дирекции своих питомцев. Между 1936 и 1941 гг. в Петрозаводске работали М. М. Михайлов, Н. В. Новиков, А. Соймонов, В. В. Чистов и другие студенты М. К., участники его фольклорного семинара. «„Команда М. К. Азадовского“ стала для Карелии поставщиком фольклористических кадров», – резюмирует Т. Г. Иванова138.
В фольклорном кружке Ленинградского университета начинали свой путь многие ученые, обогатившие своими трудами отечественную фольклористику. Один из них – Николай Новиков139. Поступив в 1936 г. в университет, он принял участие в работе фольклорного кружка. Его первая, совместно с А. Соймоновым, В. Чистовым и др., самостоятельная работа – записи фольклора на петрозаводском Онежском заводе, включенные в специальный выпуск фольклорного кружка140, а затем – полностью – в коллективный сборник Карельского научно-исследовательского института культуры141.
В процессе работы на Онежском заводе Н. Новикову удалось познакомиться с местным сказителем Филиппом Павловичем Господаревым (1864 или 1865 – 1938), от которого он записал более 100 сказок. Весной 1938 г. Господарев побывал в Ленинграде, где знакомился – в сопровождении Новикова – с городскими достопримечательностями. Тогда же он посетил и филфак университета, где выступил со своими сказками перед студентами-фольклористами. Поддержанный М. К. и руководством Карельского института, Новиков приступил к обработке собранного материала и подготовил издание сказок Господарева, состоявшееся накануне войны142. В экземпляре этой книги, сохранившемся в семейном собрании Азадовских, обнаружен листок с надписью:
Дорогому учителю Марку Константиновичу в знак искренней признательности и глубочайшей благодарности за неоцененную помощь в составлении настоящего сборника. На память о сказочно-далеких университетских 1937–1941 годах.
Как многообещающий фольклорист успел проявить себя до войны и В. В. Чистов. Летом 1936 г. он (вместе с А. Соймоновым) принял участие в студенческой экспедиции в Олонецкий район Карелии, осуществленной в основном силами Карельского научно-исследовательского института (руководитель – П. Г. Ширяева). Сохранилась фотография участников этой экспедиции; среди них (в центре) – М. К., в Олонецкий район, судя по всему, не ездивший, но проводивший в Петрозаводске «методическое совещание»143 (см. илл. 58144).
Позднее, в 1940 г., В. В. Чистов опубликовал свои записи 1937–1938 гг., сделанные им в Карелии145.
Доверяя своим ученикам ответственную работу по составлению и комментированию, М. К. охотно привлекал их к сотрудничеству и даже соавторству в изданиях, которые готовил сам. Об этом свидетельствуют, например, сборники «Русские плачи Карелии» (совместная работа с М. Михайловым) или сборник «Сказки Магая» (с участием И. Колесницкой).
Упомянем в этой связи и несостоявшийся сборник «Поморские сказки» (записи, статьи и комментарии И. Колесницкой, М. Шнеерсон, Л. Хайкиной, Е. Ленсу и Н. Алексеева). Эта работа, выполненная учениками М. К. под его непосредственным руководством, была завершена к концу 1930‑х гг. и также предназначалась к изданию в Петрозаводске146.
Не состоялось и намеченное в Карельском научно-исследовательском институте культуры издание «Известий КНИИК». Весной 1941 г. А. Д. Соймонов, с 1938 г. – заведующий Фольклорной секции института, писал М. К. (письмо не датировано; почтовый штемпель: «29. 3. 1941»):
У нас подготовлена (а к концу апреля должна пойти в печать) первая книга «Известий» Института, которые будут выходит периодически. В книге три отдела: история, фольклор, лингвистика. <…> В отделе фольклора будут участвовать все, кто работал в Карелии, и Ваша опытная, хозяйская рука очень помогла бы поставить в рамки наших молодых ребят; ведь Вы знаете всех нас очень хорошо. Статьи по карело-финскому фольклору (их пока 1–2) мы можем отдать на специальную редакцию, чтобы разгрузить Вас, если это будет необходимо. Одним словом, Ваше участие в этом издании в качестве постоянного редактора было бы так хорошо. Я очень прошу Вас дать согласие, я убедился, что нас еще рано оставлять без учителя, а ведь почти все здешние фольклористы – Ваши студенты. Я как старший среди Ваших учеников чувствую, что за всеми нами нужен присмотр.
Если Вы будете редактировать фольклор в периодическом издании института, то осуществится постоянный контроль над работами Новикова, Михайлова, моими и др<угих> товарищей. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете нас, и такой контроль совершенно необходим. Ведь мы, по существу, еще учимся, хотя и закончили университет (70–41; 14 об. – 15).
Подведем итог.
В нелегких условиях 1930‑х гг. М. К. поднял изучение и преподавание фольклора в Ленинградском университете на новый, небывало высокий уровень – в послевоенное время он начнет снижаться. Под его началом формируется поколение фольклористов, сумевших утвердить себя и успешно работавших в русской науке на протяжении последующих десятилетий.
Глава XXVIII. 1937
Большой террор начался в 1936 г. Первый московский процесс, вошедший в историю как процесс «Троцкистко-зиновьевского центра», состоялся в августе. А в январе 1937 г. в Москве разворачивается Второй московский процесс – суд над участниками «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Г. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Г. Я. Сокольников и др.). Газеты пестрели заголовками: «Никакой пощады врагам народа!»; «Отщепенцы»; «Проклятие троцкистской банде!» и т. п. Аресты приобретали массовый характер. Запущенный Сталиным маховик Большого террора стремительно раскручивался, захватывая все новые жертвы. Повсеместно проводились митинги; ораторы клеймили «вредителей» и «шпионов», требовали для них смертной казни.
Второй московский процесс продлится неделю – с 23 по 30 января. Советские газеты заполняются материалами, обличающими Пятакова, Радека и других недавних руководителей. На страницах «Литературной газеты» рядом с фамилиями руководителей Союза писателей (А. Н. Толстой, Н. С. Тихонов, Вс. В. Вишневский) можно видеть имена таких писателей, как И. Бабель, А. Платонов, Д. Мирский1, С. Маршак, В. Шкловский… Аналогично выглядели и провинциальные газеты. В «Восточно-Сибирской правде» появилась заметка, подписанная Исааком Гольдбергом2. Граждане советской страны, в том числе ученые и писатели, «единодушно» обличали «агентов иностранных разведок» и требовали для них «высшей меры»; уклониться от участия в политической кампании, направляемой сверху, было невозможно.
Все это происходило в преддверии всесоюзного пушкинского юбилея. В январе – феврале советские газеты и журналы стали наполняться многообразными пушкинскими материалами. Посильную дань юбилейному жанру пришлось отдать и М. К.: 7–9 февраля он участвует в Пушкинской конференции Института русской литературы в Ленинграде, выступая с докладом «Пушкин и фольклор»3, в то время как в центральной печати появляются одновременно три его заметки о пушкинском фольклоризме4. В каждой из них подчеркивается влияние на Пушкина западноевропейских источников и говорится о пушкинском понимании народности как особой историко-культурной категории, не ограниченной национальными рамками.
Однако настоящий 1937‑й начался для М. К. раньше календарного года. В июне 1936 г. был арестован Исаак Троцкий; он будет осужден в 1937 г. на 10 лет (с поражением в правах на 5 лет). В октябре 1936 г. была арестована Н. И. Гаген-Торн (1900–1986), этнограф, ученица Л. Штернберга, В. Богораза, Д. Зеленина, окончившая в 1930 г. аспирантуру в Научно-исследовательском институте сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ). В письме к М. К. от 2 января 1947 г. она называет себя его «всегда почтительной и рабски преданной» ученицей по институту (60–3; 23). В первой половине 1930‑х гг. Н. И. Гаген-Торн была научным сотрудником Музея антропологии и этнографии и сотрудничала с М. К. в журнале «Советская этнография», исполняя одно время обязанности секретаря редакции. Следствие пыталось связать ее с делом Н. М. Маторина (к тому времени уже расстрелянного). По приговору 1937 г. Гаген-Торн была осуждена на пять лет исправительно-трудовых лагерей5.
Тяжелейшим потрясением для М. К., как и для всей московско-ленинградской литературной интеллигенции, был арест Юлиана Оксмана в ночь с 5 на 6 ноября 1936 г. Это было – даже для той эпохи – заметное событие. Оксман был заместителем директора Пушкинского Дома, центральной фигурой нескольких крупных проектов; он вел и координировал огромную работу по подготовке академического издания сочинений Пушкина.
Для М. К. это было страшным ударом, и он имел все основания полагать, что арест Юлиана Григорьевича коснется и его самого, и Л. В. Точно такие же опасения испытывали тогда и другие люди – все, кто был дружен с Оксманом или связан с ним общим делом.
В конце января 1937 г. – накануне пушкинских торжеств – в Ленинграде погибает Сергей Гессен, попавший под колеса автобуса. И хотя Гессен не был арестован, но его преждевременная смерть воспринималась в атмосфере тех дней как некий знак, соответствующий духу времени. Л. П. Миклашевская6 вспоминает:
За гробом <Гессена> я шла с его товарищем. Подходя к кладбищу, он шепнул мне: «Может быть, так и лучше? Верьте мне, его бы все равно забрали, вот дали бы закончить <Пушкинскую> выставку и посадили бы… Все мы в списках». Я сжалась от этих слов – откуда он узнал про списки? Его действительно вскоре забрали7.
Эскалация террора достигла и берегов Ангары. В марте 1937 г. начались аресты среди редколлегии «Будущей Сибири», переименованной в 1935 г. в «Новую Сибирь» (М. М. Басов, П. П. Петров и др.). Под огнем критики оказались почти все руководители иркутской писательской организации. 15 апреля 1937 г. был арестован Исаак Гольдберг, еще в марте представлявший Иркутск на московском Совещании сибирских писателей. Нетрудно представить себе, как воспринял М. К. известие об аресте друга своей юности. А в августе 1937 г. был арестован Н. Н. Козьмин, обвиненный в сотрудничестве с японской разведкой. В первой половине 1930‑х гг. Козьмин возглавлял всю краеведческую работу в Восточно-Сибирском крае; кроме того, он входил в редколлегию «Будущей Сибири».
Большой террор свирепствовал в Сибири столь же беспощадно, как и в европейской России, захватывая все новых коллег и соратников М. К. Так, в течение 1937–1939 гг. из авторов «Сибирской живой старины» были арестованы, расстреляны или умерли во время следствия: А. П. Бажин, Р. С. Бурштейн, Я. Г. Грошков, В. Ч. Дорогостайский, П. К. Казаринов, Н. Н. Козьмин, Г. Ю. Маннс, М. П. Мельников, И. Ф. Молодых, Б. Э. Петри, А. М. Скородумов, В. И. Сосновский, Е. И. Титов, Я. Н. Ходукин, А. Н. Черкунов. (О судьбе В. Д. Вегмана и Н. М. Хадзинского говорилось выше.) В целом – 17 человек8. Погибли поэт А. Балин и Л. Михалкович, коллега М. К. Тяжело пострадал и Музей. Современный иркутский исследователь сообщает, что «в 1937 году в Иркутском краеведческом музее были арестованы и расстреляны все сотрудники»9.