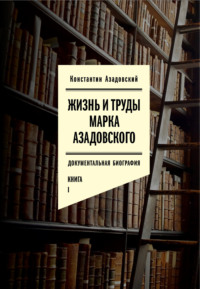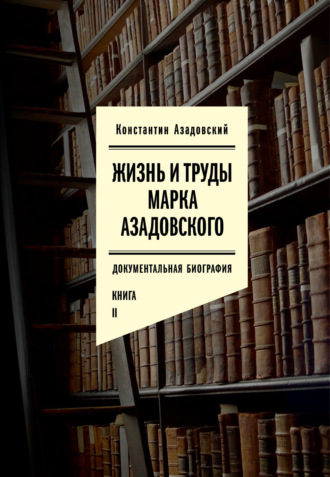
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Я полагаю, что мой научный стаж и моя репутация как ученого и общественника дают мне право требовать более внимательного и корректного отношения со стороны молодого партийца, даже и тогда, когда в моих работах встречаются те или иные ошибки.
Следует добавить, что Волков в своей рецензии почти не упоминает о «Льве Давыдовиче», создавая иллюзию чисто научного спора. Его задача заключалась, видимо, в том, чтобы привлечь внимание к профессору, пытающемуся отделить подлинный фольклор о Ленине от искусственного. (Напомним, что «подлинным» М. К. считал именно «Покойнишный вой».)
Ленинская тема (т. е. «Ленин в фольклоре») оставалась в поле внимания М. К. Тексты о Ленине появляются в выпусках 4–5 (1936) и 6 (1939) «Советского фольклора» (но отсутствуют в 7‑м). Изучая сохранившийся отзыв Н. Н. Волкова на рукопись шестого выпуска «Советского фольклора» (один из вариантов будущего сборника), можно видеть, что доступный ему экземпляр содержал материалы («Ленин в армянском фольклоре», «Украинские сказки о Ленине» и др.), не включенные позднее ни в один из сборников29.
Со временем к народной лениниане присоединяется и становится неотъемлемой частью всех фольклористических изучений тема «Сталин в фольклоре». Сотрудники Фольклорной комиссии Института этнографии регистрируют печатные выступления, посвященные Ленину и Сталину, создают картотеки, готовят публикации и статьи. Это иллюстрирует переписка М. К. с издательством «Academia», завязавшаяся в начале 1937 г. Задумав выпустить к 20-летней годовщине Октября ленинско-сталинский сборник, издательство обратилось к М. К. Редактор отдела русской литературы И. Рубановский30 писал ему 20 февраля 1937 г.:
Согласно наших переговоров <так!> прошу Вас срочно выслать издательству библиографию «Ленин и Сталин в фольклоре народов СССР» по материалам Фольклорной секции Академии наук ССССР.
Не откажите также в любезности выслать оттиск Вашей статьи «Ленин в фольклоре» и изданный Вами сборник «Ленин в русской сказке»31.
Привет!32
Откликаясь на эту просьбу издательства, М. К. отправляет Рубановскому рукопись «Указателя литературы о Ленине» и добавляет в сопроводительном письме (без даты):
Имейте в виду, что этот указатель имеет чисто справочное значение, а отнюдь не рекомендательное: тут есть и фальсификации, и идеологически непригодные вещи, и т. п., – почему в таком виде он и не предназначен нами к печати, а используется только для внутренней работы и выдается Вам исключительно для информации. Прошу по использовании данную копию вернуть. Материалы после 1935 г. сюда не вошли33.
Дело с изданием сборника подвигалось, однако, неспешно, так что 8 мая 1937 г. Рубановский повторяет свою просьбу:
Уважаемый Марк Константинович!
Мне стало известно, что Вы располагаете фольклорным материалом о Ленине и Сталине, который мне хотелось бы получить для нашего юбилейного сборника. В частности, очень хотелось бы иметь былину Конашкова (?) о Сталине34 и «Плач о Ленине»35, 36.
Сборник был выпущен спустя два года37. К тому времени «Academia» окончательно прекратила свое существование, что было, безусловно, ударом для М. К., связанного на протяжении семи лет с этим лучшим советским издательством 1920–1930‑х гг. (и продолжавшего с ним сотрудничать вплоть до начала 1937 г.38).
Тем временем ситуация вокруг «Покойнишного воя» становилась все более угрожающей – настолько, что М. К. вынужден был выступить публично с покаянным заявлением:
В 1924 г. я не сумел распознать ни скрытого контрреволюционного смысла этого плача, ни того, что он являлся, в сущности, мнимо-народным. Я не понял этого и позже и неоднократно ссылался на него в своих работах как на пример подлинно народного памятника. <…> Тем самым я объективно способствовал распространению текста, имеющего по своему существу, как я уже сказал, контрреволюционную направленность39.
Публичное покаяние стало к 1937 г. привычным явлением. Каждому, кто «оступился», надлежало выступить публично и во всеуслышание отмежеваться от своих «ошибок». Отказ от саморазоблачения мог обернуться печальными последствиями. Хорошо понимая необходимость такого шага и его ритуальный характер, М. К. вынужден был отречься от фольклорного произведения, которое всегда считал «подлинным», и от одного из своих любимых учеников, уже поглощенного сталинской репрессивной машиной.
Эхо «Покойнишного воя» сопровождает М. К. в течение нескольких последующих лет. Среди «обличителей» М. К. мы находим и А. В. Гуревича (бывшего ученика), возглавлявшего в 1930‑е гг. секцию фольклора при музее в Иркутске и явно претендовавшего на титул ведущего фольклориста Восточной Сибири. В предисловии к составленному им сборнику можно прочесть следующее:
На протяжении целого десятилетия в области русского фольклора о Ленине в Сибири теоретики фольклора пропагандировали со страниц этнографического журнала «Сибирская живая старина», в различных литературных журналах, в учебных пособиях фальсификацию народного творчества «Покойнишный вой о Ленине» <так!>.
Первая Восточно-Сибирская краевая конференция по фольклору (январь 1937 г.)40 вскрыла классово-враждебное содержание Покойнишного воя, с возмущением указала на грубую политическую ошибку проф<ессора> М. К. Азадовского, который десять лет пропагандировал фальсифицированное произведение. Конференция указала также на недопустимое замалчивание троцкистской сущности «покойнишного воя» и другими теоретиками фольклористики41.
Этот выпад, болезненный для М. К., был ему хорошо известен. Но мог ли он выступить с опровержением!
Впоследствии М. К. еще не раз придется столкнуться с Гуревичем и его «методами».
Что же касается «Покойнишного воя», то это произведение продолжает пользоваться вниманием фольклористов, неизменно подчеркивающих его «аутентичность», то есть внутреннее и формальное соответствие народной обрядовой культуре42. Интерес к этому «плачу» и попытки его осмысления можно наблюдать и в наши дни43.
В контексте 1937 г. следует упомянуть также о другом эпизоде, стоившем М. К. немало душевных волнений.
В книге «Русская сказка», сообщая биографические сведения о Н. О. Винокуровой, М. К. указал, что Наталья Осиповна скончалась в 1930 г. в возрасте около 70 лет44. Он узнал об этом в Иркутске незадолго до своего отъезда в Ленинград и с горечью воспринял это известие. «Знаете, какое у меня горе, – писал он 31 июля 1930 г. А. А. Богдановой, – умерла моя бабушка Винокурова, к которой я собирался еще раз съездить на Лену»45.
Сообщение оказалось ошибкой. Верхнеленская сказочница еще здравствовала, о чем М. К. стало известно через семь лет благодаря разразившемуся скандалу.
Летом 1937 г. в главной иркутской газете появилась заметка:
СКАЗОЧНИЦА ВИНОКУРОВА ЖИВАВинокурова Наталья Осиповна – сибирская сказочница. Ее сказки не раз издавались в разных сборниках, хрестоматиях и в изданиях библиотеки «Сокровища мировой литературы»46. Жила Наталья Осиповна сначала в селе Челпаново бывшего Верхоленского округа, а в последние годы переехала в деревню Ор на реке Куленге Качугского района Восточно-Сибирской области.
Живет она в этой деревне и по сей день. Несколько дней тому назад ее посетил научный сотрудник Общества изучения Восточной Сибири фольклорист Шубин.
Сказочница Винокурова находится в полном здоровьи. И неизвестно почему некоему М. К. Азадовскому нужно было хоронить прекрасную сказочницу Восточной Сибири Наталью Осиповну Винокурову. В издании «Академия» <так!>, том 1, «Русская сказка», том 1, им написано, что «Н. О. Винокурова скончалась только в текущем году (1930 год) на седьмом десятке лет жизни».
Заверяем издательство «Академия», что сказочница Винокурова жива. Обществом изучения Восточной Сибири ей выдано 500 руб. Заботятся о ней и качугские организации.
Общество изучения Восточно-Сибирской области
Шевцов, Иванов47.
Через месяц эту заметку пересказала – правда, в иной тональности – иркутская молодежная газета, сообщив новые подробности о Винокуровой и навестившем ее «фольклористе Шубине»:
…Наталья Осиповна Винокурова жива и здорова. Живет она в деревне Ор Качугского района, в колхозе. Ее сыновья – также состоят в колхозе, а во время навигации работают в Ленском пароходстве.
Наталью Осиповну Винокурову отыскал Шубин, студент фининститута, член фольклорной секции Общества по изучению Восточной Сибири. Будучи в командировке по сбору фольклора, он встретился с учителями, ехавшими из Качуга, которые и рассказали ему о Винокуровой. Шубин поехал в деревню Ор и там встретился с ней.
Семидесятилетней старушке, знатоку множества сказок и преданий, Наталье Осиповне Винокуровой Обществом по изучению Восточной Сибири выдано единовременное пособие в сумме 500 рублей48.
А через несколько дней на страницах «Восточно-Сибирской правды» появилась еще одна заметка, в которой сообщалось, что Н. О. Винокурова, член колхоза «Октябрьская революция», отметила свой 70-летний юбилей и что «колхозники, комсомольцы, коллектив Усть-Тельминской неполной средней школы», собравшись по этому поводу, попросили Наталью Осиповну рассказать сказку. «Целый час аудитория с напряженным вниманием слушала интересную и увлекательную сказку „Портупей-прапорщик“»49.
Об Азадовском в этой заметке не упоминалось.
Скандал вокруг Винокуровой, пусть даже регионального масштаба, мог в 1937 г. иметь серьезные для М. К. последствия, тем более что Общество изучения Восточной Сибири, спутав по безграмотности издательство «Academia» с Академией наук СССР, направило в Отделение общественных наук гневное письмо. Изложив историю поездки в Качуг студента фининститута Шубина, записавшего «ряд новых текстов» Винокуровой, Шевцов, чья подпись указана под письмом, вопрошал:
Мы спрашиваем редакцию «Академии», почему в нашу эпоху, когда так дорожат людьми, тем более выдающимися в той или иной области, и когда особенно принимаются меры к выявлению талантов, в частности, к выявлению носителей фольклора, редакция и М. Азадовский хоронят заживо одну из лучших не только в Сибири, но и СССР сказительницу.
И, как того требует жанр клеветнического доноса, Шевцов (от имени Общества изучения Восточно-Сибирской области) просил «Академию» «срочно расследовать поведение М. Азадовского и сообщить о результатах Об<щест>ву для того, чтобы можно было информировать общественность» (57–32; 3).
Приводим (в сокращении) ответ М. К., адресованный академику-секретарю отделения А. М. Деборину:
Я получил Ваше отношение от 26 сентября и копию письма Общества изучения Сибири50; с поставленным в ней вопросом я ознакомился уже несколько ранее по заметке в газете «Восточно-Сибирская Правда», копию с которой прилагаю.
Прежде всего я должен констатировать, что и заметка в газете, и пересланное мне Вами письмо составлены так, что определенно вводят в заблуждение читателя. По прямому смыслу этих документов выходит, что в Сибири уже давно была известна знаменитая сказительница Винокурова, что ее сказки неоднократно печатались, что о ней писались исследования; среди этих собирателей и исследователей был и я, записавший от нее несколько десятков сказок и позже давший ложную информацию о ее смерти.
Однако, в действительности, дело обстоит совсем иначе. Сибирскую сказительницу Винокурову открыл впервые я, и я же своим исследованием определил ее значение и место в общем ряду русских сказителей. Я записал ее сказки в 1915 году <…>. Категорически утверждаю, что до моей встречи с Винокуровой, вернее, до появления моей работы о ней, Н. О. Винокурова была никому не известна и о ней ни разу не было никаких упоминаний ни в научной, ни в краеведческой, ни в общей печати. Широкая известность Винокуровой начинается только после выхода в свет моего сборника, который имел большой успех и вызвал целый ряд лестных откликов как советских исследователей и краеведов, так и западноевропейских ученых. <…>
Совершенно справедливо, что имя Винокуровой часто встречается как в русской, так и в западноевропейской сказковедческой литературе, но это произошло только после появления моих работ и всегда со ссылками на них. Таким образом, противопоставление моих работ каким-то другим работам и исследованиям, отнесшимся якобы с большим пиететом и вниманием к Н. О. Винокуровой, явно несостоятельно и, можно даже сказать, совершенно вымышлено, ибо никаких других работ о Винокуровой, кроме моих, не существует и не существовало.
Но действительно, в названной выше антологии «Русская сказка» я допустил, как это сейчас выясняется, крупную ошибку, сообщив в краткой биографической заметке о Винокуровой (стр. 376) о смерти сказительницы. Происхождение этой ошибки следующее.
В 1930 году я предполагал повторно посетить Ленский район, главным образом, Наталью Осиповну Винокурову, чтобы выяснить эволюцию ее творчества за 15 лет. Эта поездка вошла в план работ Вост<очно>-Сиб<ирского> Отдела и была утверждена Правлением Общества изучения Сибири, которым и было отпущено специальное ассигнование для этой цели (полагаю, что все это легко может быть подтверждено протоколами или бумагами Вост<очно>-Сиб<ирского> Отд<ела> и Общества изучения Сибири за 1930 год). О своем проекте посетить Н. О. Винокурову я написал ей, запрашивая, где она будет летом, а вскоре, находясь уже в Ленинграде, я получил уведомление от местных людей об ее смерти (от моей родственницы Новоселовой), чему, конечно, у меня не было никаких оснований не доверять. В результате я отказался от предложенного мне ассигнования, отменил свою поездку и включил это сообщение о смерти Н. О. Винокуровой в антологию, над которой как раз в то время я работал (сдана в издательство 1 октября 1930 г.).
Я вижу теперь отчетливо, что поступил очень неосторожно, не предприняв тщательной проверки сообщенного мне известия; я причинил этим большую неприятность сказочнице, а во-вторых, очень пострадал и сам, ибо отказался от очень важного для меня дальнейшего исследования ее творчества. Но думаю, что из всего сказанного совершенно ясно, что мысль о каком-то сознательном извращении истины с моей стороны абсолютно нелепа и абсурдна. Во всяком действии должен быть какой-то смысл. Какой же смыл был мне, после опубликования ряда работ о Винокуровой, в преддверии дальнейших исследований объявлять сказочницу, при публикации нескольких ее текстов в антологии, умершей. Ясно, что никакого удовлетворительного ответа дать на этот вопрос невозможно. Думаю, что это сознают и сами авторы письма, иначе им незачем было бы так тщательно затушевывать подлинное значение моих работ о Винокуровой и делать мнимые противопоставления.
Конечно, я заслуживаю большого и серьезного упрека за допущенную мной неосторожность, и следует быть чрезвычайно благодарным Обществу изучения Восточной Сибири, сумевшему эту мою невольную ошибку устранить и исправить, – но методы и приемы, допущенные при этом гр. гр. Шевцовым и Ивановым, вызывают с моей стороны глубокий протест и негодование.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
В письме к Ю. Г. Оксману (июнь 1949 г.) М. К. заметил, что в ГИРКе фактически директорствовал Л. П. Якубинский (Переписка. С. 115). Лев Петрович Якубинский (1892–1945), языковед; окончил историко-филологический факультет в 1913 г. Примыкал к ОПОЯЗу. Ученый секретарь ГИРКа; в конце 1930 г. руководил проведенной в институте «чисткой».
2
ОРФ ГЛМ. Фольклорный архив. Ф. 50. № 359 (2). Л. 2.
3
Азадовский М. К. Письма к А. А. Богдановой / Публ. и коммент. Л. В. Азадовской // Сибирь. 1978. № 6. С. 77 (письмо от 6 октября 1930 г.).
4
Сообщено В. С. Отяковским.
5
Василий Алексеевич Десницкий (один из псевдонимов В. Строев; 1878–1958), революционер (социал-демократ); литературовед; профессор ЛГУ. Известен своей близостью к Горькому.
6
РО ИРЛИ. Ф. 496; не разобран (письмо от 17 октября 1930 г.).
7
Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), филолог, антиковед, культуролог; с 1932 по 1950 г. профессор Ленинградского университета. Двоюродная сестра Бориса Пастернака. Автор «Записок» – яркого публицистического документа сталинской эпохи.
8
Полный текст доклада опубликован: Брагинская Н. В. Siste, viator! // Орфей: Человек в истории. 1995. С. 244–271.
9
В своем «Кратком жизнеописании» (1945) М. К. упоминает о том, что Фольклорная секция в ИПИНе была создана весной 1931 г. по его предложению (М. К. Азадовский в автобиографических документах / Публ. К. М. Азадовского // Русская литература. 2013. № 4. С. 101).
10
Основатель и глава советской германистической школы, В. М. Жирмунский уделял на протяжении всей своей научной деятельности особое внимание фольклору, выступая и как собиратель (немецких народных песен на юге Украины и в Крыму в 1926–1931 гг.), и как теоретик-исследователь. Занимался немецкой диалектологией. Участвовал во многих фольклористических конференциях, заседаниях, обсуждениях (в 1929 г. был командирован с докладом на международный Съезд фольклористов в Берлине). В годы войны, находясь в Ташкенте, приступил к изучению среднеазиатского героического эпоса («Алпамыш», «Манас»).
11
Израиль Григорьевич (Гершонович) Франк-Каменецкий (1880–1937), востоковед (египтолог и гебраист), младший брат иркутского врача-офтальмолога З. Г. Франк-Каменецкого и химика А. Г. Франк-Каменецкого. Последователь и сторонник яфетической теории Марра. Погиб, попав под автомобиль.
12
См.: Астахова А. Дискуссия о сущности и задачах фольклора // Советская этнография. 1931. № 3–4. С. 239–240. Там же (с. 241–242) опубликован и основной текст выступления М. К.
13
Там же. С. 240.
14
Там же. С. 241.
15
Иванова 2009. С. 518.
16
СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. № 84. Л. 39 об.
17
Андреев Н. П. Группа фольклора Государственного института речевой культуры в 1929–1930 и 1930–1931 гг. // Советская этнография. 1931. № 3–4. С. 249. Среди перечисленных докладчиков М. К. не значится.
18
В течение нескольких месяцев М. К. исполнял обязанности ученого секретаря ГИРКа.
19
Видимо, речь идет о планировавшейся операции на горле.
20
Наум Яковлевич Берковский (1901–1972), историк русской и западноевропейской литературы, литературный и театральный критик. В начале 1930‑х гг. работал в ГИРКе. В 1936–1941 гг. – сотрудник ИЛИ, профессор и заведующий кафедрой западноевропейских литератур в Ленинградском государственном педагогическом институте им. М. Н. Покровского.
21
Б. А. Кржевский.
22
Александр Александрович Смирнов (1883–1962), историк литературы, литературный критик и переводчик; шекспировед; один из первых российских кельтологов.
23
В 1938 г. ему пришлось изменить фамилию «Троцкий» на «Тронский».
24
М. К. был назначен на эту должность 1 июня и исполнял ее до 31 декабря 1931 г. (55–6; 3; справка из архива АН СССР от 29 сентября 1948 г.).
25
В этом (последнем) сборнике серии «Язык и литература» появилась статья М. К. «Сказительство и книга» – о грамотности народных сказителей, влиянии книги на их репертуар, формах соприкосновения сказочников с книжной культурой, книжных напластованиях в современной сказке и т. д. Первоначально эта статья (под названием «Сказочник и книга») предназначалась для несостоявшегося в 1930 г. сборника в честь С. Ф. Ольденбурга (см. главу XIX). Дата (в конце статьи): май-июнь 1929 г.
26
Имеется в виду Иеремия Исаевич Иоффе (1891–1947), искусствовед, культуролог, сотрудник ГИРКа; создатель «синтетической» теории искусств.
27
Для Вас! (франц.)
28
Обыгрывается мотив «съеденного сердца», распространенный в средневековой литературе.
29
Сохранилось в записи Л. В.
30
Анна Михайловна Астахова (1886–1971), фольклорист, исследователь северного фольклора, прежде всего былин; в 1922–1931 г. – сотрудница ГИИИ, позднее – ИПИНа и Музея антропологии и этнографии, с 1939 г. – в ИРЛИ. Член Русского географического общества.
31
Евгений Владимирович Гиппиус (1903–1985), фольклорист-музыковед. Учился на факультете истории музыки ГИИИ, с 1927 г. – в аспирантуре. Ученый секретарь Фольклорной комиссии института, основатель и хранитель фольклорного Фонограммархива (ГИИИ, ИПИН, ИАЭ, ИРЛИ). С 1944 г. – в Москве.
32
Ирина Валерьяновна Карнаухова (1901–1959), фольклорист, исполнительница народных сказок; писательница.
33
Наталья Павловна Колпакова (1902–1994) окончила в 1924 г. Высшие курсы искусствознания при ГИИИ и была зачислена в Крестьянскую секцию института. С января 1939 г. заведовала Кабинетом народного творчества на филфаке ЛГУ. В 1943–1948 гг. преподавала в Педагогическом институте им. А. И. Герцена; в 1945–1948 гг. – на филфаке ЛГУ. Сотрудница ИРЛИ с 1953 по 1957 г.
34
Александр Исаакович Никифоров (1893–1942), фольклорист, историк литературы. В ГИИИ числился как внештатный сотрудник.
35
Зинаида Викторовна Эвальд (1894–1942), фольклорист, этномузыковед, автор работ о народной лирике.
36
Подробнее об экспедициях ГИИИ 1920‑х гг. и научной деятельности упомянутых фольклористов см.: Иванова 2009. С. 285–304.
37
Более точными в отношении последних месяцев существования ГИИИ представляются такие определения, как «развал», «разгром» и «ликвидация» (см.: Кумпан К. А. Институт истории искусств на рубеже 1920–1930‑х годов // Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде: По архивным материалам. М., 2014. С. 8–128).
38
Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 4. Стб. 536.
39
Имеется в виду собрание в ГИИИ 5 июня 1930 г.
40
[Б. п.] За кулисами науки // Красная газета. Вечерний выпуск. 1930. № 132, 6 июня. С. 3.
41
Эти сведения восходят к работам К. А. Кумпан (см.: Кумпан К. А. Институт истории искусств на рубеже 1920–1930‑х годов) и Т. Г. Ивановой (Иванова 2009. С 461–462), использовавших архивные источники.
42
Иванова Т. Г. Фольклористика в Государственном институте истории искусств в 1920‑е гг. // Русский фольклор: Материалы и исследования. СПб., 2004. Т. 32. С. 65.
43
Иванова 2009. С. 463.
44
См.: Кумпан К. А. Институт истории искусств на рубеже 1920–1930‑х годов. С. 124.
45
Именно так именовался реорганизованный институт в 1931–1932 гг. – ЛО ГАИС; в 1933–1936 гг. – ГАИС (см.: Лапин В. А. Изучение фольклора в РИИИ // Временник Зубовского института. СПб., 2013. Вып. 11: Фольклористика в Зубовском институте. С. 12).
46
В течение нескольких месяцев ГАИС воспринималась как новое подразделение ГАХН. В мае 1931 г., заполняя анкету (в связи с переписью научных и научно-технических работников) и перечисляя места своей работы в Ленинграде, М. К. указывает не ГАИС, а именно ГАХН (СПбФ АРАН. Ф. 155. Оп. 2. № 7. Л. 178).
47
Николай Федорович Бельчиков (1890–1979), историк литературы, текстолог. Один из инициаторов и член редколлегии журнала «Литература и марксизм». В 1946–1948 гг. – ответственный секретарь Отделения литературы и языка АН СССР. Директор Пушкинского Дома в 1949–1955 гг. Член-корреспондент АН СССР (1953). О его роли в судьбе М. К. см. главы XXXVII и XXXVIII.