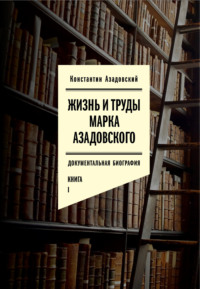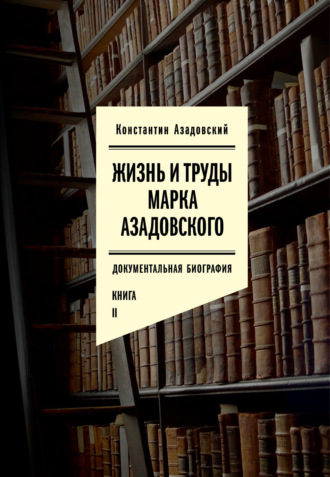
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга II
Основной корпус работ, опубликованных в этом выпуске, был осуществлен членами Фольклорной секции Института антропологии и этнографии (Астахова, Лозанова, Магид, Ширяева) и самим М. К., поместившим в сборник четыре своих статьи и рецензии. Участвовали и другие ученые (Г. С. Виноградов, Е. Г. Кагаров, А. И. Никифоров, В. Я. Пропп, В. И. Чернышев). Немаловажная роль отводилась восьмому разделу («Хроника советской фольклористики»), в котором сообщалось о положении дел «на местах» – в Саратове и Петрозаводске, в Грузии, Мари, Бурят-Монголии, Туркмении и Узбекистане. Выходец «из провинции», М. К. придавал огромное значение связям с фольклористами, находящимися вне Москвы и Ленинграда. Так, с принципиально важной теоретической статьей («Буржуазная фольклористика и проблема стадиальности») в этом томе выступил киевский исследователь В. П. Петров70.
М. К. поместил в этом выпуске четыре свои работы. Первая из них посвящена памяти Н. Я. Марра, ушедшего из жизни в последние дни 1934 г.71
Издание «Советского фольклора» продолжалось вплоть до 1941 г.; вышло семь сборников.
Другим крупнейшим начинанием середины и второй половины 1930‑х гг. станет трехтомник «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева в издательстве «Academia».
Переговоры по поводу нового (шестого) издания афанасьевских сказок начались, по всей видимости, еще в 1932 г. Внешним импульсом мог послужить тот факт, что в первой половине 1932 г. в издательство обратилась родственница А. Н. Афанасьева, предложившая приобрести у нее рукопись «Заветных сказок» (обычное название: «Народные русские сказки не для печати»). Рукопись была отдана для изучения и оценки Н. С. Ашукину72 и М. А. Цявловскому, удостоверившим ее аутентичность. Тогда же, по инициативе Цявловского, с рукописи были сделаны три копии, одна из которых сохранилась в архиве М. К. (33–2; объем рукописи – 452 страницы); другой экземпляр поступил в 1939 г. в Рукописный отдел Института русской литературы73.
26 октября 1932 г. редакционный отдел издательства направляет Н. П. Андрееву копию договора на подготовку к печати «Собрания сказок» Афанасьева74. Такой же договор был отправлен, вероятно, и М. К. (не обнаружен). Издание в трех томах было поручено М. К., Н. П. Андрееву и Ю. М. Соколову. «…Нужно нам всем троим редакторам поговорить о сборнике Афанасьева», – предлагает Юрий Матвеевич 3 января 1933 г. в письме к М. К. (70–46; 32 об.). Однако к лету 1933 г. ситуация все еще оставалась неопределенной: не были подписаны договоры.
Главным «двигателем» издания был Ю. М. Соколов, курировавший в «Academia» фольклорные проекты. Летом 1933 г. М. К. писал ему:
За Афанасьева – ты молодец! Мою точку зрения ты знаешь на сей предмет: ее должен был изложить тебе Н. П. Андреев, от которого я впервые и узнал об Афанасьевском предприятии. Но о выпуске 2‑х томов зимой нечего, конечно, и думать. Ведь уже август, а договор еще не подписан. Затем отпуска и отдыха́: по крайней мере я до конца сентября не работоспособен. Первые же два тома очень трудные. Нужно, значит, заготовить все вступ<ительные> статьи, а на это, само собой, уйдет большая часть времени. К тому же эти тома мифологические, и здесь пересмотр особенно потребует много времени. Если б можно было выпускать тома не в порядке, – было бы легче, но по многим причинам неудобно. Полагаю, что нужно начать работу сразу же по всем томам, – а затем уже, закончив всю черновую работу, подготавливать один за одним. Может быть, разбить вступительные статьи по томам. В первый том – общая статья Марра или Маторина и твоя: биография Афанасьева. Во второй том – о мифологической сказке. Но куда еще деть о принципах издания. Вообще, совершенно необходимо общее совещание. <…>
Да, возвращаюсь к Аф<анасьев>у. Если будешь подписывать договор, учти все мои замечания и не иди на легкомысленные требования редакции о сногсшибательных сроках. Это – невозможно!75
Работа распределилась следующим образом: М. К. и Андрееву поручалось подготовить тексты и написать комментарий, Соколову – вступительную статью. Весь первый том в готовом виде предполагалось завершить и представить (по первоначальному плану) к 1 декабря 1934 г.; второй и третий – соответственно в 1935 и 1936 гг.
Работа М. К. и Андреева была выполнена в срок76 и в начале 1934 г. отправлена в «Academia», откуда поступила к Ю. М. Соколову. «С вниманием и с большой почтительностью читал первый том Афанасьева, – пишет он М. К. 17 февраля 1934 г., – и Н<иколай> П<етрович>, и ты вышли победителями из трудностей. Рукопись уже сдана в „вычитку“. Но у Я. Е. Эльсберга, а за ним и у Л. Б. Каменева возникли некоторые вопросы. Чтобы много не писать, посылаю листок этих „вопросов“. <…> Напишите мне срочно свои соображения» (70–47; 11 об.).
В том же письме Соколов затрагивает тему художественного оформления:
Насчет иллюстрирования, по-моему, прекрасно все выходит: взялась группа близких друг другу по манере художников: В. И. Соколов, М. В. Маторин, Н. П. Дмитревский и Староносов77. В томе будет 10 больших гравюр, из них 3 цветных. Портрет Афанасьева будет тоже гравирован. Каждая сказка будет начинаться с инициала, с вплетенными в орнамент сказочными сюжетами. Часть инициалов будет цветная. Тематические разделы сказок будут отмечаться заставками. Суперобложка будет для всех томов общая в основе, но с вариациями в соответствии с содержанием каждого тома. Первые наброски и план работы художников будут обсуждены с нами, когда ты приедешь в Москву (70–47; 11 об.).
Как видно, «Academia» и Ю. М. Соколов привлекли к оформлению книги ряд художников-иллюстраторов, сотрудничавших тогда с этим издательством. Их работу курировал Юрий Матвеевич. «Сегодня художник Дмитревский приносил показывать свои гравюры к Сказкам Афанасьева, – информирует он М. К. 28 сентября 1934 г. – Мне понравились. Соколов свою работу кончил. Остановка, гл<авным> обр<азом>, за художником Маториным, который позадержал портрет Афанасьева» (70–47; 4–4 об.).
В результате работы Н. П. Дмитревского (как и П. Н. Староносова) были отвергнуты. И первый, и два последующих тома украшают черно-белые и цветные ксилографии В. И. Соколова (заставки, инициалы, концовки и переплет) и М. В. Маторина (фронтиспис, титульный лист и суперобложка).
«Я сейчас из сил лезу, чтобы скорее написать статью об Афанасьеве», – сообщал Соколов в Ленинград 11 февраля 1934 г. Однако дело затянулось, и даже в ноябре статья не была завершена. «Как приеду в Москву78, закончу статью об Афанасьеве, – обещает Соколов в письме к М. К. 11 ноября 1934 г. – Его призрак душит меня ночью. Снится он мне всегда в сопровождении тебя и Николая Петровича» (70–47; 9 об. – 10).
Статья была завершена в начале 1935 г., однако подверглась жестокой критике со стороны М. К. и Н. П. Андреева, признавших работу Ю. М. Соколова «недоделанной» и упрекавших его в излишней «нарративности». Письмо М. К. к Юрию Матвеевичу от 10 марта 1935 г. содержало развернутую и аргументированную критику. «…Мы просим тебя еще поработать над статьей, – подытоживает М. К. – Без ущерба, нам кажется, можно было бы сократить длинные выписки, относящиеся к первой части: к эпохе детства, женитьбы и т. д. <…> Наконец, есть у тебя и прямые ошибки»79.
Ю. М. Соколов принял замечания коллег, и статья была доработана. Правда, к тому времени первый том уже находился в типографии и был, видимо, набран (дата сдачи в набор – 2 октября 1934 г.). Однако пройдет еще более года, прежде чем том будет подписан в печать, издание же состоится лишь в 1936 г. (Неудивительно, если вспомнить о событиях, сотрясавших издательство «Academia» начиная с декабря 1934 г.!)
Два последующих тома «Сказок» появились уже в Гослитиздате. Редакторам удалось сохранить внешний облик издания и даже тираж (10 тысяч экземпляров); неизменным оставался и коллектив редакторов (М. К., Андреев и Соколов). Однако состав участников менялся от тома к тому. Наличие в афанасьевском сборнике украинских и белорусских сказок побудило редакторов привлечь к работе других славистов. Для подготовки украинских текстов был приглашен литературовед, критик и переводчик И. Я. Айзеншток, а в качестве редактора белорусских сказок – славист К. А. Пушкаревич, знакомый М. К. еще по Томскому университету80.
Последний том «Сказок» был сдан в набор в апреле 1938 г., а подписан к печати лишь два года спустя; он вышел осенью 1940 г. и примечателен своими приложениями, в особенности третьим: тридцать три текста из «Русских заветных сказок» – первая (хотя и неполная) публикация этого памятника в ХХ в., выполненная не по предыдущим изданиям, а по рукописи, обнаруженной в 1930‑е гг. При этом, не имея возможности публиковать «непристойные» тексты, редакторы отобрали лишь несколько сказок, содержащих едкую сатиру на попов («наиболее удобных для воспроизведения в печати»81).
В подготовке третьего тома «Сказок» Афанасьева принял также участие – разумеется, по инициативе М. К., – Г. С. Виноградов, выполнивший часть работ по редактированию и комментированию текстов и составивший, кроме того, оба указателя (именной и предметный). Ранее уже говорилось о товарищеском, заботливом отношении М. К. к своему иркутскому другу, которого в 1930‑е гг. он старался приобщить не только к изданию «Русских народных сказок», но и к ряду других проектов. Список опубликованных работ Виноградова между 1930 и 1940 гг. свидетельствует, что М. К. привлекал его также к сотрудничеству с издательством «Academia» – в результате появилась вступительная статья Г. С. Виноградова к двухтомнику П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» (1936–1937)82.
Так завершилось шестое издание русского сказочного эпоса, растянувшееся на восемь лет, – одно из немногих крупных начинаний М. К., которое удалось осуществить полностью. Седьмое издание, выполненное В. Я. Проппом, последует в 1958 г., восьмое, которое подготовили Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков (ученик М. К.), – в 1985–1986 гг.
Нереализованным между тем остался другой замысел М. К. – издание дневника А. Н. Афанасьева за 1852–1855 гг., рукопись которого (объемом в 130 листов) находилась в личном собрании М. К. Когда и при каких обстоятельствах она оказалась в его руках, неизвестно. В поле зрения исследователей этот дневник до настоящего времени не попал, однако не вызывает сомнений, что он представляет собой неизвестную часть дневника Афанасьева, предшествующую той, что хранится ныне в ГАРФе (архив Е. И. Якушкина). Современная исследовательница, изучавшая дневники Афанасьева, сообщает, что в архиве имеется писарская копия афанасьевского дневника с июня 1846 по ноябрь 1852 г. и дневниковая рукопись с осени 1855 г.83 Именно этот трехлетний промежуток – с конца 1852 до осени 1855 г. – и охватывает рукопись в архиве М. К. (85–6), который явно собирался ее публиковать и даже перевел рукописный текст на машинку (85–7).
В письме к С. И. Минц84 от 6 февраля 1946 г., обсуждая возможность своего участия в очередном томе «Звеньев», М. К. сообщал: «Кстати, у меня имеются отрывки из дневников Афанасьева (около 5 печ<атных> л<истов>) – правда, там фольклорного очень мало, но Афанасьев!»85
В 1950 г. М. К. пытался заинтересовать дневником Афанасьева редколлегию «Литературного наследства». В письме к И. С. Зильберштейну (февраль-март 1950 г.) он дал подробную характеристику той части афанасьевского дневника, что оказалась в его собрании:
Располагаю дневником А. Н. Афанасьева, относящимся к 1853–<18>55 гг. (Москва). К сожалению, рукопись, обладателем которой являюсь я, досталась мне в растерзанном виде: она начинается c 56 стр<аницы> и, видимо, утрачен конец. Не пугайтесь имени: там нет ни одного слова о мифологической теории и даже о сказках мало говорится <Излагаются лишь инт<ересные> цензурн<ые> перипетии. – Примеч. М. К.>. Это его еще в основном дофольклорный период. Дневник заполнен чисто литературными (и только ими) материалами. Анекдоты, статьи, эпиграммы, сплетни, наблюдения, оценки и т. п. и т. п. Упоминаются имена Некрасова, Щепкина, <пропуск>, Аполлона Григорьева, всех почти профессоров Московского университета, Щербины (в частности, неизвестная – я, по крайней мере, никогда ее не встречал – сатира последнего: «Перед бюстом автора гостинодворской комедии»:
Трибун невежества и пьянства адвокат
Самодовольствием черты твои сияют…86
Есть и другие неизвестные эпиграммы и т. д. Щербины. Затем встречаются имена Погодина, Мих<аила> Дмитриева (его эпиграммы), С. А. Соболевского, И. Панаева, Грановского, Кетчера, Надеждина, Авдотьи Панаевой, Ф. Глинки, Давыдова87, приводит один свой разговор с Тургеневым и пр. и пр. и пр. Выводит часто сведения о рукописях Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, рассказывает о цензурных деяниях и сделанных им вылазках в <пропуск> произведениях и пр. Среди различных приводимых им текстов <пропуск> «Царя Никиты»88 и много всякого другого добра.
Вообще, по-моему, очень интересно и читабельно.
Размер примерно листов 7–8. Полагаю, что при печатании можно будет кое-что выпустить как уже не представляющее интереса. Например, на нескольких страницах он подробно перечисляет псевдонимы и криптонимы «Современника»89, раскрывая стоящие за ними имена. Два года тому назад это был бы первоклассный материал – теперь же, после работы Масанова и Некр<асовского> Лит<ературного> Насл<едства>90, это уже ни к чему – разве лишнее дополнение и дополнительная документация. Можно эти страницы не перепечатывать, а только упомянуть о них в примечании; но там же есть раскрытие псевдонимов «Москвитянина»91.
Еще ряд выписок из «Пол<ярной> Звезды» Герцена. Конечно, нет надобности это публиковать целиком92.
Остается надеяться, что рано или поздно историки литературы или фольклористы обратят внимание на «интересный» и «читабельный» дневник и завершат начатую М. К. работу.
Работая над «Сказками» Афанасьева, М. К. внимательно изучил рецензию Н. А. Добролюбова на первое их издание (1857), анонимно напечатанную в «Современнике» (1858), и признал ее особенное значение. «Эта замечательная рецензия должна быть включена в число важнейших памятников в истории русской фольклористики», – сказано в статье М. К., посвященной С. Ф. Ольденбургу93. Ученый последовательно старался привлечь внимание к этой рецензии Добролюбова и гордился тем, что ему удалось это сделать. Так, в письме к Ю. М. Соколову от 10 марта 1935 г., напоминая о своей статье, «где отмечена ее <рецензии> роль и значение в истории русской фольклористики», М. К. с удовлетворением добавляет, что его мнение по этому поводу «уже вошло в Dobrolubovian’у»94.
В то время готовилось к печати Полное собрание сочинений Добролюбова в шести томах, задуманное как юбилейное (в 1936 г. исполнялось сто лет со дня рождения критика). И хотя критико-публицистические статьи Добролюбова неоднократно издавались и переиздавались еще в дореволюционное время, однако полноценное, научно выверенное издание его произведений отсутствовало. Предстояло наново просмотреть все прижизненные публикации Добролюбова, выявить и изучить тексты, появившиеся анонимно или оставшиеся в рукописи, установить случаи цензурного вмешательства и, наконец, подготовить к печати его стихотворения, а также ранние, оставшиеся неизвестными наброски, заметки и рецензии.
Редактором советского собрания сочинений Добролюбова стал П. И. Лебедев-Полянский95, в то время главный редактор «Литературной энциклопедии», возглавлявший также Отдел русской литературы в ГИХЛе (где и началась подготовка шеститомника). Всей конкретной архивной, текстологической и комментаторской работой занимались пушкинодомцы: Ю. Г. Оксман, чья фамилия как редактора стоит на титульном листе первых трех томов (1934–1936), Б. П. Козьмин и И. И. Векслер (именно в такой последовательности их фамилии названы в редакционном предисловии к первому тому). К составлению примечаний привлечены были также ленинградцы С. А. Рейсер, И. Г. Ямпольский, М. М. Калаушин, Н. И. Мордовченко, Н. Л. Степанов и др.96
Тесно связанный с Оксманом, М. К. был, разумеется, в курсе начавшейся работы. Нетрудно предположить, что все находки, новые прочтения, спорные места добролюбовских текстов живо обсуждались в дружеском кругу. Том вышел в 1934 г.97 Изучив новые, ранее неизвестные ему статьи и рецензии Добролюбова, обнародованные в этом томе, М. К. пришел к выводу, что они представляют собой «большой интерес и для русской фольклористики, и для истории советского краеведения», и счел нужным отметить это в специальной рецензии98. Повторив свою оценку «замечательной» рецензии на «Сказки» Афанасьева, М. К. сосредоточил свое внимание на ранней статье Добролюбова «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева», впервые опубликованной полностью в первом томе. В качестве приложения к своей рецензии М. К. привел две записанные Добролюбовым народные песни («Они представляют помимо специфически „добролюбоведческого“ интереса и чисто фольклористический интерес как любопытные варианты к имеющимся записям»99). Эта «мини-публикация» свидетельствует, что М. К. обращался к рукописям Добролюбова.
Появление первого тома стимулировало интерес М. К. к Добролюбову и послужило для него толчком к созданию очерка «Добролюбов и русская фольклористика». Написанная в 1935 г., эта работа занимает среди прочих историографических работ М. К. особое место: с нее начинается исследование «совершенно утраченной в нашей науке линии»100 – той самой, что получит со временем (и прежде всего благодаря М. К.) конкретное определение: «Фольклористика русской революционной демократии».
Этот раздел был особенно важен для М. К. в контексте его общей, формирующейся в те годы концепции развития русской фольклористики. Понимание народной поэзии было неотделимо в восприятии М. К. от общественной идеологии того или другого периода русской истории. Взгляды демократической, революционно настроенной интеллигенции 1860‑х гг., желавшей – в отличие от славянофилов – видеть в русском народе активное, протестное, творческое начало, были созвучны М. К. – «социалисту-революционеру» 1910‑х и советскому ученому 1930‑х гг. Некоторые высказывания Добролюбова позволяли ему видеть в них близость к «современной» методологии. «Добролюбов, – заключает М. К., – <…> дифференцирует народную поэзию и ищет в ней отражения различных социальных групп и классов. Конечно, он не сумел еще сказать этого на языке нашего времени, но он, как никто из его современников и многих поздних исследователей, сумел приблизиться к классовой точке зрения»101.
Излагая добролюбовскую интерпретацию фольклора, М. К. соотносит ее с деятельностью отдельных этнографов и собирателей 1860‑х гг., отвергавших «официально-патриотическую» доктрину славянофилов и воплотивших в своей конкретной работе теоретические воззрения Добролюбова. В этом ряду «последователей и единомышленников» на первом месте оказываются И. А. Худяков (1842–1886) и И. Г. Прыжов (1827–1885). Такую же идейную связь с Добролюбовым М. К. усматривает и в трудах П. Н. Рыбникова, чьи фольклористические интересы формировались в кругах демократической интеллигенции. «Как собиратель-фольклорист он принадлежит, несомненно, к той же генерации фольклористов, что и Худяков и Прыжов, идейным вождем которой был Добролюбов»102.
Не случайно и оброненное М. К. как бы вскользь замечание о том, что в своих суждениях о народной поэзии Добролюбов, противопоставляя свою точку зрения славянофильской, решал политическую задачу: борьба за фольклор была для него «одним из моментов его общей борьбы за народность в литературе»103. С этой фразой перекликаются заключительные слова статьи, призванные подчеркнуть ее актуальность в середине 1930‑х гг.: «…а то, что правильно политически, должно быть правильно и методологически»104. Тем самым М. К. обозначил безусловный приоритет революционных демократов, якобы более «прогрессивных», чем все предыдущие (впрочем, и последующие – домарксистские) течения фольклористической мысли в России.
Статья «Добролюбов и русская фольклористика» известна в двух редакциях. Вторая (1937), опубликованная в сборнике «Литература и фольклор», во многом повторяет первую (та же трехчленная композиция, то же расположение материала, те же общие выводы и т. д.). Тем не менее видно, что статья редактировалась автором, использовавшим, в частности, тексты и примечания к ним в следующих двух томах Полного собрания сочинений Добролюбова. В целом же новая редакция была направлена на усиление позиции, изложенной в статье 1935 г. Обсуждая суждения и взгляды Добролюбова, М. К. стремится представить их как самоценный этап русской фольклористики, основанный на новой интерпретации народа и народности.
Статьи М. К. о Добролюбове 1935–1936 гг. были его первой попыткой осмыслить роль и значение «шестидесятников» в истории русской фольклористики и обосновать ее связь с «передовыми» тенденциями эпохи. Эта линия будет продолжена в работах конца 1930‑х гг., посвященных фольклористическим взглядам А. Н. Веселовского и Н. Г. Чернышевского. В последней, опубликованной спустя несколько лет, содержится и самокритичное признание: статья о Добролюбове (в обеих редакциях) представляется М. К. «односторонней» – «вследствие отсутствия в ней упоминания о значении Чернышевского»105.
Так постепенно, исподволь вызревала глава будущей историографической монографии, посвященная фольклористам-шестидесятникам.
Внимание к новым формам фольклора, возникшим в России после 1917 г., естественно соотносилось с ленинской темой. Рассказы и даже песни о вожде стали распространяться еще при жизни Ленина. М. К., например, слышал их еще летом 1918 г. на пароходе «между Барнаулом и Бийском». А смерть Ленина в январе 1924 г. дала импульс к появлению текстов в жанре «причитания».
Мы не беремся судить об истинном отношении М. К. к Ленину как к политическому деятелю (со временем оно, возможно, менялось). Очевиден, однако, его научный интерес к личности, литературному стилю, ораторской манере Ленина (то же можно сказать о многих советских писателях, художниках и ученых, пытавшихся, особенно в 1920‑е гг., запечатлеть и отобразить фигуру «вождя», осмыслить его наследие и т. д.).
12 декабря 1928 г. М. К. спрашивал М. П. Алексеева (из Ялты):
Не считаете ли нужным устроить заседание О<бщест>ва ист<ории>, лит<ературы> и яз<ыка> по случаю пятилетия со дня смерти Ленина? Темы есть, и они уже разработаны: «Стиль Ленина», «Грамматика» и пр<очее>. Помните специальный выпуск ЛЕФа106, – и есть еще; эту литературу, конечно, хорошо знает Севочка107. Если не будет времени подготовить спецдоклад, можно сделать компилятивный: «Литература о стиле Л<енина>»*. <*Еще темы: «Ленин и художественная классическая литература». «Ленин и искусство». – Примеч. М. К.>. Все это более ли менее обработано и разработано. Только сначала обсудите этот вопрос в тесном кругу – и устраивайте только в том случае, если найдутся докладчики достаточно авторитетные и грамотные. Не давайте только докладов А<лександру> С<еменовичу>108 или уж только в придачу к кому-нибудь. А вот хорошая тема – ей по-настоящему стоит заняться: «Ленин как револ<юционный> оратор». Будь я там, пожалуй бы, соблазнился такой темой. Разве только загрузка и перегрузка Ваша всеобщая помешает этому.
Ленинская тема воспринималась и воплощалась в различных формах; М. К. она интересовала прежде всего в фольклорном плане. Задержимся на истории с публикацией «„Покойнишный вой“ по Ленине», впервые появившейся в «Сибирской живой старине»109 и спустя десятилетие оказавшейся фактом биографии самого М. К.
Это причитание, выдержанное в традиции народного плача по усопшему, было записано Н. М. Хандзинским в Иркутске в конце ноября 1924 г. от Кати Перетолчиной, девушки из села Кимельтей Иркутской губернии, и свидетельствовало, казалось, об истинном чувстве «народа», скорбящего по ушедшему вождю. М. К. (и впоследствии другие фольклористы) считали это произведение органичным и высоко оценивали его художественное значение. Однако в тексте плача содержалось упоминание о Л. Д. Троцком («Ой што адин будит да испалнять у нас, / Ой што адин толька да Леф Давыдавич»), и, упоминая в разные годы о «Покойнишном вое», М. К. приводил обычно эти строки. Дорабатывая первое издание «Бесед собирателя», он даже расширил его фрагментом из «Покойнишного воя», подкрепив ссылкой на публикацию Родиона Акульшина «Заклятие Лениным и Троцким. История появления одного заговора»110.«Выдающийся памятник», открытый Н. М. Хадзинским, М. К. отметил также в появившейся через несколько лет работе, посвященной Иркутскому университету111. В проекте фольклорной серии «Библиотеки поэта», изложенном в письме к В. М. Саянову от 22 июля 1933 г., М. К. описывал том «Причитания» следующим образом: «…От плачей Ирины Федосовой до современных плачей – по Ленину…»112. Нет сомнений: если бы этот том состоялся, М. К. включил бы в него «Покойнишный вой».
Фрагмент этого плача вошел также в хрестоматию «Русский фольклор», составленную Н. П. Андреевым113; из дарственной надписи составителя (см. илл. 60) явствует, что М. К. принимал в этом издании непосредственное участие.