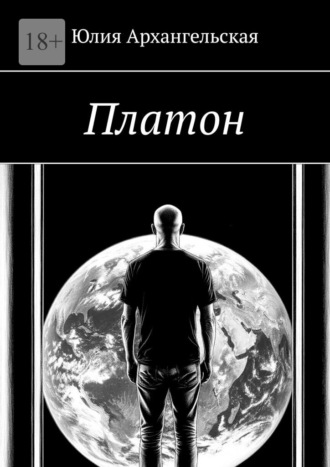
Полная версия
Платон
– Не хотелось бы. Спрошу на месте. Люди знают, на что идут, я знаю, на что иду, но риск должен быть оправданным. Уточню. Посмотрим, – ответил я.
– На что ты собрался смотреть? Тебе скажут то, что ты хочешь слышать, ведь ты им нужен и твои бабки тоже. Ты на крючке из-за странного желания спать, а вернее, из-за нежелания уложить себя насовсем немедленно, если я правильно понял. Ты устал, Па. Настолько устал, что уже ничего не хочешь и решил взять паузу, – Пашка обхватил голову руками и сцепил их на затылке.
– Даже если так, что с того? – я хотел закурить, но моя сигарета разрядилась, и я отложил ее в сторону. – Чем я рискую?
– А как же Ма? – спросил он спокойно. – Как ей объясню, случись что?
– Никак. Записка на столе, – ответил я, чувствуя, как угольки стыда в душе занялись пламенем, но отступать не хотел.
– Понятно: не ты, так тебя. На их косорукость полагаешься. Если я попрошу тебя не ехать, ты откажешься от своей затеи? – он опустил руки и подался вперед.
– Прости, нет, – слова дались мне с трудом. Я знал, что, проснувшись утром и протрезвев, приду к тому же решению и разговор придется начинать сначала.
– Понятно. Теперь моя очередь отпускать. Когда едешь? – спросил Пашка.
– Завтра, – ответил я.
Он полез в карман и достал коробочку.
– Кажется, мой подарок неожиданно обрел актуальность, – констатировал он и отдал ее мне.
Я открыл ее и взял в руки серебряное кольцо. Кольцо Соломона. Гравировка знаменитых фраз «все проходит» и «и это пройдет» была выполнена на греческом. Для безымянного оно оказалось великовато, я надел его на указательный палец правой руки и тут, присмотревшись, увидел надпись на ребре: «Ничто не проходит».
– Спасибо, Паш.
– И кто все будет доедать, для кого я столько заказал? – он широко улыбнулся и погрозил. Серьезность и печаль улетучились, будто не было меж нами внезапных откровений и напряженной беседы. – Все, Па, я включаю кино. Бодрый боевичок, под него еда и бухлишко исчезнут без следа, и мои труды с микроволновкой не пропадут, – Пашка взял пульт и включил плазму, висевшую напротив стола. На экране появился поезд, летящий по ледяной пустыне прямо на нас. – «Сквозь снег». Годится. Едим. Внимаем, – он притянул к себе утку и, покривившись, сказал: – Фу, дохлая, холодная. Я пошел греть.
Комната без стен
На следующее утро я завтракал в самолете, летевшем рейсом Москва – Сочи. День спустя лежал, покачиваясь, на голубых простынях, облепленный датчиками, в мягком чепчике со встроенными электродами и говорил с доктором, который готовился закрыть мою капсулу, похожую на футуристический гроб. Конечно, я все подписал. Они были чертовски убедительны, а их аргументы железобетонны.
Маленький санаторий, расположенный не так высоко в горах, как предполагал, но далековато от города и селений, оказался доверху набит вооруженной охраной. Совершенно не страшной, напротив, красивой и безупречной, как президентский полк, но отбивающей всякое желание лезть на рожон. Стоя на проходной, я увидел среди зарослей кустов и бамбука пустоглазые корпуса бывшего санатория, обвитые плющом, а вдалеке – белый купол вроде тех, что устанавливают на спортивных аренах. Дернулся, чтобы уйти, но не тут-то было. Кто-то положил мне руку на плечо и шепотом объяснил, что охрана необходима, чтобы защитить секрет, важный для каждого из нас:
– Наивно полагать, что к нашей лаборатории ведут указатели от аэропорта, – сказал владелец тяжелой руки. – Волноваться можно, а паниковать – нет, а то придется отделить вас от группы и работать по индивидуальной программе, а это встанет дороже. Сохраняйте спокойствие – и сэкономите на дополнительных услугах, которые всем по вкусу, – рука отпустила плечо и слегка подтолкнула меня вперед, почти ласково. – Чувствуйте себя как дома, господин Орос.
Функцию денег в этой мутной истории я понял. Тот, кто платит, уверен, что держит все под контролем. Люди действительно вели себя непринужденно. Они предвкушали оплаченное чудо. После беглого медосмотра, на котором измерили температуру, давление, сатурацию, взяли кровь на анализ и установили катетеры для внутривенного питания, нас привели в капсульный зал. Выглядел он фантастично, все восторженно сравнивали его с космической станцией, а я – с навороченной палатой интенсивной терапии. Капсулы сна, их блеск, магический голубой свет и запах как от новеньких авто – все манило, завораживало, и никто не обратил внимания на инфузоматы. Я мог предположить, что через них нас собираются кормить, но, насколько мне было известно, глюкоза, витамины и белковое внутривенное питание не подавали через электронные капельницы. Значит, усыплять нас собирались не волшебными ваннами. Я насторожился. Группу вплотную подвели к центральной капсуле, открыли ее и еще раз подробно рассказали о процедуре флоутинга и дали потрогать водяной матрас. Рассказывая о нем, ординатор отметил различные его свойства, включая противопролежневые. Я сострил, что если сон будет медикаментозный, то лучше, чтобы и матрас оказался противопролежневым, ведь в коме не поворочаешься. Другие пропустили замечание мимо ушей, их интересовало, можно ли в виде бонуса сбросить несколько килограммов, несколько десятков килограммов и как это закрепить в дополнительном соглашении к договору.
Персонал улыбался и разговаривал с улыбкой. Видимо, она была дресс-кодом, и только бородатый доктор, крутившийся рядом, казался нормальным. Он услышал мою ремарку и быстро отвел меня в сторону, чтобы я не сеял панику, как он выразился. Оставшись с ним наедине, я подавил желание выпытать у него правду. Обстановка, продвинутое оборудование, обходительный персонал, безупречные договоры – все говорило о том, что они те, за кого себя выдают, – ученые-частники, мечтающие заполучить космический контракт, а я обычный параноик. Будь я чокнутый профессор с идеей разгадать секрет вечной молодости, разве я не поступил бы так же? Без возможности экспериментировать на людях не продавал бы богатым буратинам части достигнутого под видом омолаживающих процедур и прочей фигни? Прикинул, что и псевдоолимпийский комплекс – тоже удобная штука. После проведения эксперимента я бы сворачивал и переносил лабораторию в другое место. А по возможности переносил бы ее вместе с клиентами, во избежание проблем с законом. Мы стояли на открытой площадке второго этажа у лестницы, облокотившись на металлические перила, и смотрели на капсульный зал сверху вниз. Десять изящных капсул образовывали полукруг, они были массивные и явно тяжелые. К ним по полу тянулись разнокалиберные кабели и шланги, а сверху на кронштейнах спускались горизонтальные консоли.
– Тяжело, наверно, все время переезжать, – я удивился тому, что сказал это вслух.
– Непросто. Со временем привыкаешь, – ответил доктор и пригладил бороду.
Я взглянул на него, и надобность задавать вопросы отпала. Мы понимали, о чем молчим, и будто играли в гляделки. Он не отводил глаз, я искал в нем намек на сочувствие, но напрасно. Вдруг он спросил:
– Зачем вы здесь?
– Решил хорошенько выспаться, – я старался не моргать.
– Не поверю, что сами, – его бледно-серые, как мартовский лед, глаза начали оттаивать. Кого-то он мне напоминал, но я не мог вспомнить кого. Слишком холоден он был, а таких людей я не встречал.
– Один чудак уговорил на спонтанный поступок, и вот я перед вами.
Он наклонил голову, но не отвел взгляд.
– То есть вы здесь по чужому билету? – спросил он.
– Не совсем, у него не было денег на билет. Попросил прокатиться разок, чтобы его затем бесплатно взяли. Так он сказал. Хоть это правда? – мне захотелось отвернуться, внутри тикал таймер и говорил, что я иду на рекорд.
– Правда, – ответил доктор и отвел глаза.
За спиной пикнул магнитный замок двери. Из стеклянного куба управления, в котором сидел персонал за мониторами, к нам вышел сияющий ассистент и предложил последовать за ним в зал. Клиенты занимали капсулы, а моя, стоявшая с краю, пустовала. Доктор быстро сменил тему. Спускаясь по лестнице, он жестикулировал и воодушевленно рассуждал о том, что мои опасения по поводу побочных эффектов депривации чувств – полная чушь и я буду находиться на круглосуточном мониторинге. Если что-то пойдет не так, медики меня разбудят, а фирма вернет деньги и принесет извинения. Но все пойдет как по нотам. Осечек не бывает.
Из сложившейся ситуации я видел два выхода. В первом меня ждало возвращение домой после омолаживающей спячки, а во втором я мог сгинуть самым безгрешным способом. Терять, по сути, было нечего. Но я существо живое и в самый последний момент сдрейфил.
– Вам удобно, нигде не жмет, ничто не давит? – поинтересовался доктор, поправляя на мне шапку с датчиками.
– Нет. Все хорошо. Спасибо. А как быстро я усну? – спросил я, попытался сесть и плюхнулся на спину, по матрасу пошла волна.
– Мы же с вами все обговорили. Я закрою капсулу, и данный вопрос перестанет вас волновать. Вы расслабитесь, потеряете связь с реальностью – в этом вся прелесть, – его голос звучал монотонно и ласково, будто он успокаивал ребенка.
– А вдруг мне что-то понадобится? – мне захотелось вылезти и убежать.
Доктор закатил глаза и выдохнул.
– Если понадобится, постучите или помашите. Мы заметим, но я буду крайне удивлен, если у вас получится, – на его лице нарисовалась улыбочка.
– А вдруг я умру? – я перестал сражаться с водяным матрасом, лежал и не шевелился.
– Мы узнаем об этом первыми. По крайней мере, это не будет на вашей совести, – ответил он и подмигнул.
– И сколько таких, как я, на вашей? – спросил я.
– Вам соврать? – к нему вернулась невозмутимость.
– Нет, спасибо. Просто не подозревал, что в подобной ситуации открою в себе клаустрофобию и испугаюсь постельки с крышкой. Вполне здоровая ассоциация, но разволновался не на шутку. Ладно, поехали, – ответил я и заставил себя улыбнуться.
Доктор нажал кнопку на панели – и крышка моего футуристического гроба стала медленно опускаться. Внутри зажегся приятный голубой свет. Как снаружи, как на картинках из буклета. Я успокоился, прикрыл глаза и расслабился. В следующую секунду меня посетила мысль, что надо попросить воды, вдруг подумал, что лучше бы выжить, вернуться и предупредить Семьтонна, чтобы он не вляпался в это дерьмо, – парень-то он неплохой, жалко, если пропадет, – потом почувствовал жжение в руке, вспомнил, что мне установили катетер, но не мог припомнить, когда они успели его подключить, и вырубился.
Готов поклясться, что вначале я пребывал в полусне. Тишина и состояние невесомости доставляли удовольствие. Засыпал ли я или меня усыпляли, но черные ямы обещанного забытья сменялись красочными сновидениями. Сколько бы ни старался открыть глаза, ничего не получалось. Многажды мне казалось, что не сплю, а встаю, выхожу из капсулы, тайком покидаю базу, возвращаюсь домой, прошу прощения у Пашки, бегу к Семьтонну, рассказываю ему все и он обещает не ехать. Сны наслаивались друг на друга, забывались, и все повторялось по накатанному.
Я почти потерял связь с реальностью, пока однажды не произошло нечто странное. Вдруг я очнулся. Очнулся распятый на холодном столе в окружении кричащих людей в защитных костюмах и масках. Дернулся, понял, что привязан, попытался закричать, зашелся жалким хрипом и кашлем, подавившись интубационной трубкой, торчащей изо рта. Едва успел сообразить, что происходит, как мое тело сковала судорога, и в ту же секунду в голове взметнулось адское пламя. Больше ничего не видел и не слышал. Пламя поглотило все и вся. Отрезанный от мира неведомым пожаром, я только чувствовал. Чувствовал, будто падаю в ожившую темноту спиной назад, широко раскинув руки, долго-долго, ощущая тяжесть своего тела, невероятную тяжесть, стремительно несущую меня в пропасть. Я так и не узнал, чем закончилось падение.
Когда открыл глаза, понял, что нахожусь в комнате. Странной комнате без стен. Всюду был свет. Невыразимо яркий, сочный, первозданный и ровный. Воистину совершенный. Я смотрел по сторонам, искал мощные лампы и прожектора, но не нашел. Видимо, само место было светом. Потолка и пола тоже не было. Точь-в-точь как в примерочной у Семьтонна. Но здесь иллюзия вышла за пределы зеркала и захватила все пространство. Тем не менее я осознавал, что верх – это верх, а низ – это низ, и только мое зрение не позволяло увидеть его границы, ведь я практически ослеп. Очевидная догадка заставила меня рассмеяться. Я схватился за голову и тут же застыл в недоумении. Она пропала. Осторожно посмотрел вниз, опустил руки и ничего не почувствовал. Меня тоже не было. Тело исчезло.
Почему-то не запаниковал, не испытал страха потери или ужаса, а стоял и прислушивался. Тишина была как в безэховой камере, которая впитывает 99 процентов звуков, оставляя нам лишь стук сердца и приливной шум тока крови. Но я не услышал и их. И тут я понял, чего мне еще недостает. То была боль. Боль – вечный спутник человеческого тела. Она ушла, ее место заняла невероятная легкость. И сам мой дух был спокоен и чист, будто с него одним порывом снесло безумные нагромождения тревог, надежд и не осталось ничего, кроме меня. Вдруг почувствовал, что свободен. Наконец-то по-настоящему свободен. Я снова огляделся и оценил иронию момента. Неужели надо было оказаться здесь, чтобы понять и почувствовать, что есть свобода. У меня не было легких, но знаю, тогда я дышал полной грудью. Вместе со мной дышала комната без стен и свет, и я был этим светом. Я был счастлив и очарован.
Тут-то я и понял, что умер.
Смерть Платона
Что бы ни говорили о загробном существовании, все сходятся в одном – это навсегда. Мое «навсегда» выглядело как полдень в Антарктиде. От меня осталось сознание, внутренний голос и способность видеть, при том что смотреть здесь было абсолютно не на что. Будь у меня на чем сидеть, я бы сел и поразмышлял о том, что делать дальше, но последние телесные ощущения испарились. Я был ничем в нигде, и первое, что обнаружил, было время. Я сделал это открытие, когда исследовал комнату. Сначала я продвигался вперед робко, медленно, затем быстрее, еще быстрее, а потом летел стремглав, чтобы найти ее границы.
«Где скорость, там и время, а значит, вечность покажется вечностью», – подумал я и заметно огорчился.
Как бы далеко я ни забирался в своих путешествиях, видел лишь бескрайнюю пустоту, но даже в ней, безликой и однообразной, место, где появился на свет, оставалось каким-то притягательным и особенным. Я чувствовал с ним связь и не хотел его покидать.
Я не мог закрыть глаза и не спал, ослепленный светом, предоставленный сам себе, наедине с собой. Временами мне становилось скучно. Вскоре я научился молчать и наслаждался тишиной. В жизни бывали моменты, когда не хотелось вести бессмысленные беседы в голове. Я ложился на диван, слушал музыку, смотрел в окно на небо или дремал. В моей памяти, к счастью, хранилась богатая фонотека, и сейчас я врубал на всю катушку любимые мелодии. Скоро и это занятие надоело. По моим прикидкам, я болтался тут около месяца, может, больше, и шансы на спятить росли. Комната без стен не могла быть одиночной камерой, в которой меня заточили навечно. Что-то в ней было не так, и я должен был понять что.
И тут меня осенило. Музыка. Генделя в рок-обработке я воспроизвел у себя в памяти, но так хотел его слышать громко, что вскоре он сотрясал все пространство. То же было с другими мелодиями, и показалось, что свет стал мягче, пока играла соната. Я решил проверить догадку. Включил в башке «Слезу» Вагнера и, увеличивая громкость, стал наблюдать за происходящим. Свет не изменился, но определенно музыку я слышал снаружи, а не в себе, чем бы я ни был. Я представил, что она звучит из портативной колонки, и мысленно перенес ее влево. Она стала звучать оттуда, потом отправил ее за спину – и стал слышать позади себя. Представил, что выключаю ее, свою маленькую черную цилиндрическую колонку с потертым зеленым ремешком и встроенными часами, голосовой командой «спи» – и она затихла, пикнув на прощанье. От неожиданности я обернулся. Мне понравилось то, что я увидел. Метрах в пяти у меня за спиной стояла моя задрипанная колонка, и теперь у меня были часы, которые показывали 12:00 по полудню. Вопрос в том, что я не мог ни взять, ни потрогать ее, но то, как она здесь оказалась, стало ключом от всех дверей.
Долго я провозился со своей единственной игрушкой, но часы все еще показывали 12:00, и я решил, что они тормозят. Однако убедился, что она не галлюцинация, а в прямом смысле плод моего воображения. Плейлист на ней был короткий, и не знаю как, но я закачал в нее из памяти музыку. Перенес, как с устройства на устройство. Радио здесь не ловило, и мне пришла идея придумать радиостанцию. Я же слышал за свою жизнь много разных песен, звучавших фоном, и не запоминал их. Где-то же они должны были осесть. Наобум назвав радиостанцию «Свет», я включил ее, и, к моему удивлению, она действительно стала транслировать все подряд. Для первого раза это было неплохо, однако не идеально для перфекциониста. Я не поклонник радио, но тут сообразил, что музыку надо рассортировать по тематике, и скорее не из любви к искусству, а из нелюбви к его некоторым жанрам. Так появилось мое собственное «Русское радио», мои «Европа», «Ретро», «Шансон», «Рок», «Falk», «Рор-Music», «Классика». Только затем я отстал от колонки, выключил ее, погрузился в тишину, всем существом понимая, чего мне не хватает на самом деле. Без Генделя с Бахом из динамиков я бы прожил пару тысяч лет, проигрывая их в своем нигде.
Мне не на что было смотреть. Свет – это хорошо, во тьме я б загрустил. Во тьме пришлось бы сочинять свет, а так, можно сказать, мне повезло. Честно, не знаю, как вообразить свет, хотя кажется, это просто. Можно представить солнце, огонь, свечу, лампочку, в конце концов, а свет, обычный или такой, как здесь, я бы, наверно, представить не смог. Так и остался бы сидеть в темноте до конца времен или выудил из памяти ночник. Потом бы люди спрашивали: откуда берутся черные дыры, откуда берутся черные дыры?
Вспомнив, как обстояли дела с колонкой, вперился в условный горизонт и постарался представить небо и море. Как дурак, я буравил даль, привлек на помощь колонку, заставил ее воспроизводить шум моря, крики чаек, дельфинов и касаток, но напрасно. В жизни я бы уже психанул, но сейчас у меня было совершенно иное состояние души, очаровательно пришибленное в своей вселенской гармоничности, а еще, что немаловажно, миллиард миллиардов попыток взломать систему. Я редко испытывал страх перед чистым листом, с чего бы ему появиться здесь.
«Буду сочинять свой мир с нуля и учиться в нем жить, раз уж так обернулось, и смерти нет, и я теперь в общепринятом смысле то, чего вообще не может быть. Не сидеть же тут сложа невидимые руки», – подбодрил себя я.
Немного пофланировав в полной тишине, я предпринял отчаянную попытку, граничащую с безумием, – обратился к свету. Ну а что? Должен был попытаться, чтобы раз и навсегда поставить точку в теологическом споре.
– Уважаемый свет, – сказал я, – ты прекрасен во всех отношениях, и я готов любоваться тобой вечно, тем более, как я понимаю, ты не оставляешь мне выбора. Но не мог бы ты для разнообразия подарить мне вид на море? Я бы предпочел смотреть на закат, если тебе интересно. Подойдет рассвет, и ночь сгодится. Если море для здешних условий – явный перебор, сойдет вид на пустыню, но тоже предпочтительнее в предрассветное или вечернее время. Видишь ли, я человек, и моим глазам нужен отдых от бесконечности. Опять же, если я прошу много, то подели мир пополам и верни тьму, чтобы у меня было место, где бы я мог отдохнуть. Слышишь меня, свет? Эй, тут есть кто-нибудь?!.
Я почти поверил, что был услышан. Ждал часов шесть, отсчитывая время по трекам, называл свет тугодумом и оправдывал тем, что в масштабах вечности для обработки сумбурного заказа это недолго. На девятом часу ожидания я устал и смирился с тем, что свет – это просто свет, а не живое существо, не высший разум, и в глаза мне не светит никто волшебный и всемогущий. Это чертовы фотоны – бездушные волны или частицы в зависимости от настроения или наличия наблюдателя, согласно квантовой теории.
«Здесь нет никого, кроме меня, вернее, того, что от меня осталось. Или это и есть я. Просто я и ничего лишнего», – пришел к выводу я.
Понимание, что ты один, – был один, есть один, будешь один, и помощи ждать неоткуда, – резко облегчает задачу. Я снова прокрутил ситуацию с появлением колонки и попытался ответить на вопрос: почему она появилась внезапно? Я же не специально представил ее, а будто вспомнил случайно: услышал, ощутил ее тепло и запах.
«Какой же я болван! Все, что нужно, у меня с собой и лежит глубже, чем обычное воображение. Недостаточно представить желаемое, чтобы оно появилось, – сперва его надо заново прожить и прочувствовать. Так рождаются слова, так пишутся книги».
Море было моей слабостью. Море было всем для меня. В светлом покое не хватало красок, я вспомнил Черное море накануне шторма. Глубокое небо с рваными облаками, валом чернильной синевы и полосой закатного пламени на горизонте. Услышал, как волны с крутыми гребнями, грохоча, разбиваются о пирс, выбрасываются на берег, перебирают рассыпанные четки гальки. Ветер заглушал мой голос, брызги летели в лицо, небо заволакивала тьма. Видел, как из нее ныряли в море резвые молнии. Вдруг небо метнуло гигантский трезубец, и он пронзил море у пирса, тут же ударил гром. Расклокотавшееся эхо бросилось метаться меж скалами и скрылось в тесных пещерах ущелья. Вторая молния трещиной пошла по небу, грозя расколоть его надвое. Я вздрогнул и остолбенел. Вокруг бушевала гроза. Повернувшись к ней спиной, увидел четкую границу, линию, за которой был свет комнаты без стен с черной колонкой четко посередине.
– У меня получилось, черт подери, у меня получилось!.. – закричал я.
Вышло правдоподобно. Но все же я чувствовал себя частью матрицы, потому что не мог ничего потрогать, понюхать, не мог, как раньше, запросто прыгнуть в воду, искупаться, посидеть на гальке. Похоже, в этой реальности у меня были только две предустановленные функции: творить и созерцать, что не так уж плохо, учитывая обстоятельства.
В жизни человеку даны четыре мира вместо одного: реальность, сны, фантазия и память. А здесь всего два. Память и воображение – кирпич и цемент для великой стройки, у которой не будет конца. Вот что я понял, любуясь своим первым произведением с катастрофическим эффектом.
Я сунулся в бушующее море и посмотрел на дно. Под водой все было пустым и безжизненным. Я расстроился. У меня зрел план, как обустроить комнату, сделать ее максимально уютной для жизни, и пункт с рыбками вошел в десятку дел на досуге. Сначала надо было разобраться с погодой. Смотреть на грозу приятно, но не целыми днями. Да и настраивать погоду вручную не хотелось, поэтому я стал разбираться, как это работает. Море не колонка, в которую я перенес музыку из памяти, – там хотя бы местами было где-то понятно и что-то логично. Однако с морем сработал тот же механизм. В буквальном смысле я загрузил в него все, что знал о нем: от теории до чувственного восприятия. С погодой разобраться было легко, а вот с чем я действительно сломал голову, так это с самым элементарным – днем и ночью. Я еще раз по благодарил случай за то, что у меня оказалась колонка с часами. Подозрение, что в свете времени как бы не существует, вкралось давно, поэтому там стоял вечный полдень, и дело было не в часах. Взять я ее не мог, и признаюсь честно, что многократно и безрезультатно попрактиковался в телекинезе. Исчерпав оригинальные идеи, я вернулся к топорному варианту и представил ее на берегу. Сработало.
Сутки я вручную регулировал движение Солнца и Луны. Более утомительное занятие представить трудно. Хотел, чтобы все было по-настоящему, и оно того стоило. Стоило оно и жизни колонки, потому что она полностью разрядилась. Вернуть ее в комнату я не смог и похоронил на пляже. Зато на следующий день у меня был настоящий восход, реальный полдень, безупречный закат и черная ночь над Черным морем. И все же пейзаж казался безжизненным, как на Марсе. Новый день я посвятил озеленению пляжа, прибрежных скал и ущелья. С ботаникой у меня было туго, я решил, что неплохо было бы воткнуть меж камней пальму. Большую, раскидистую, с кокосами – и воткнул. Вышло ужасно нелепо, пошло, по-черноморски вычурно. Дурацкая тридцатиметровая пальма испортила весь вид. Я постарался ее стереть, испробовал триста тридцать три способа избавиться от нее, включая попытку заново переписать кусочек пляжа, но тщетно. Так я понял, что созданное мной останется здесь навсегда, и урок усвоил. Поразмыслив, прикинул, что сильный шторм рано или поздно дотянет до моего шедевра, а если нет, то я срежиссирую природный акт вандализма. Весь день я создавал водоросли, разбрасывал тину, сажал камыши, потом кропотливо тыкал траву, цветы, колючки, кусты, деревья, вспоминая, как заботилась о саде Вера, ухаживая за каждым растением, общаясь с ними, словно с детьми. Она говорила, что им нужны ласка, тепло, вода и пчелы, иначе они погибнут.


