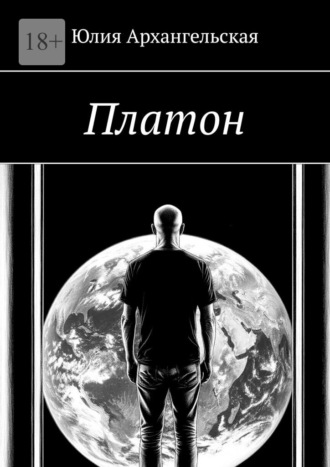
Полная версия
Платон
– Вы сказали, что отказываетесь умирать. Полагаю, планируете жить вечно, – ответил я и потянулся за кошельком.
– Тепло, но ближе к холодно. Когда встречаются два человека с двумя последними желаниями, одно из которых – шляпа, это сближает, – просиял он. – У вас две попытки.
– Э, нет… Я сюда не в игры пришел играть, – оборвал его я.
– И что мешает уйти? – он замолчал, будто сам обдумывал ответ на свой вопрос, огляделся, остановил взгляд на мне и сказал с легким упреком: – Все дело в шляпе. Только в ней. Что ж, так и быть. Вот, возьмите и пройдите к зеркалу.
Продавец указал на нишу. В ней стояло зеркало в раме, по форме напоминавшей дверной проем, поэтому я принял его за дверь, когда вошел. Сработали датчики. Вспыхнул свет: сверху, снизу, с боков, отовсюду. Кто-то разбирался в его игре и сделал так, чтобы в отражении покупатель не увидел ничего, кроме себя. Я наслаждался иллюзией и разглядывал свое отражение. Моя тощая длинная фигура в грифельно-серых джинсах, пиджаке поверх черной футболки с пылающим черепом с надписью: «Без паники» и шляпе на гладко выбритой голове будто парила в воздухе. «Если бог существует, сегодня я предстану перед ним в таком виде, он скажет мне: „Привет“, – а я… Я воспользуюсь шляпой», – подумал я.
Репетируя невозможное, я слегка поклонился самому себе и приподнял шляпу, проверив, годится ли она для джентльменского приветствия. Годилась. Сидела как родная. На ощупь была мягкая, приятная. Не так я ее представлял. Мне казалось, это нечто среднее между кепкой и цилиндром, жесткое, упругое, удобное, как картонная коробка. Я был доволен и немного сожалел, что не купил ее раньше. Подумаешь, вещь – пустяк… Может ли вещь что-то изменить в жизни? Выходит, может, если перестаешь ее хотеть. Последнее желание материализовалось, и больше хотеть было нечего. Ну, и ее я не то чтобы хотел, а скорее выдумал, чтобы было чего хотеть. Потому что… Боюсь, что признаться в истинной причине я не мог даже себе.
– Отлично. Беру. Сколько она стоит? – снова спросил я и полез во внутренний карман пиджака.
– Она стоит того, чтобы выпить кофе и поговорить. Цена окончательная. Можете не снимать. Черный или с молоком? – спросил продавец.
– Дороговато, не находите?
– Продать я ее не могу, но могу выменять. Полчаса – и она ваша, – объяснил он свое решение.
– Грабеж среди бела дня, – ответил я, сдавая позиции и в очередной раз отпуская кошелек.
– Сейчас утро, – напомнил он и постучал пальцем по запястью.
– Тогда черный, – выдавил я, понимая, что этот чудак от меня не отстанет, а шляпа мне нужна. Другую я не хотел, а эту прям до смерти.
Если люди предлагают поговорить, подразумевается, что вы будете слушать. Никогда не знаешь, каким будет последний день, даже если он запланирован. Что-то обязательно пойдет не так. Хотел купить себе подарок, приготовить ужин, отпраздновать, лечь и отъехать. А вместо этого потрачу час – надеюсь, что не больше, – на разговор о том, как хорошо жить вечно, не старясь, не умирая в самый неподходящий момент, и вообще. Мне заранее стало скучно.
Продавец был довольно прытким для своих габаритов, подпадающих под описание: что положи, что поставь. Костюм-тройка сидел на нем впритык, черные волосы были зачесаны назад с щедрой порцией геля и забраны в длинный хвост до лопаток. Все пальцы, кроме больших, украшали серебряные кольца, а на безымянном правой руки выделялась печатка. Он одновременно походил и на мафиози, и на гламурного байкера. Однако вполне вписывался в колоритную атмосферу магазина с полумраком, отчетливым запахом выдохшегося конька и дорогого табака. Не успел я подумать, что здешний антураж – тоже фишка маркетологов, продающих образ жизни под видом вещей, как в моих руках оказался бумажный стакан эспрессо. Продавец трижды подчеркнуто вежливо попросил не ставить его на очень редкий, очень старый и очень-очень дорогой ему столик, древность которого бросалась в глаза, а редкость вышибала слезу. Ноги столика были чуть стройней, чем у бульдога, страдавшего артритом, а столешница из янтаря с трудом умещала шкатулку для сигар и колоду игральных карт. Хрупкое кресло по соседству продавец пощадил. Он убавил высоту своего стула-самоката, перебирая ногами добрался до меня, припарковался напротив и стал пить кофе, оттопырив мизинчик. Возникла пауза, которую я намеренно игнорировал. Он покосился на свои остроносые ботинки и начал сравнительный анализ длины шнурков, потом как бы между прочим спросил:
– А причина ухода у вас не трагическая? Несчастная любовь, приговор врачей…
– Нет, – ответил я.
– И все близкие живы и здоровы? – продолжил он, изучая ботинок.
– Да, – ответил я.
– Может, бедствуете или проигрались?
Он подтянул левую ногу, потуже затянул шнурок, свел носки ботинок вместе и стал наклонять голову вбок в поисках нужного ракурса, и когда его тело и стул готовы были последовать за головой, он вернулся в исходное положение, явно довольный, скрестил ноги на подставке под сиденьем и услышал ответ:
– Нет.
– Значит, весомых причин нет. Ладушки.
– Вы считаете, что иных причин быть не может? – спросил я.
– Дайте-ка подумать, – он вытянул руку со стаканчиком перед собой и обвел им меня, прищурив оба глаза. – Вы разочарованы. Я угадал?
– Почти. Я никогда не был очарован, поэтому – нет. Мне надоело, – быстро ответил я.
– Не рановато ли? – удивился он. – В наши годы кризис среднего возраста не редкость, с ним справляются и идут дальше. Вы не первый и не последний. Сходите к мозгоправу и будете как новенький, – назидательным тоном произнес он.
– Я проскочил станцию среднего возраста и следую к конечной. Новеньким мне уже не стать, – я поднял стакан, намекая на тост.
– А сколько вам? – отпрянул он.
– Пятьдесят. Сегодня праздную.
– Святой Оскар Вай… – восторженно воскликнул он, разводя руками, но я не дал ему закончить.
– Ляпнете про Дориана Грея – и я вылью кофе на ваш неприкосновенный столик, – я угрожающе занес руку со стаканом над раритетом.
– Понял, понял, не дурак. Мысль ушла и не вернется. Кофеек держите над коленками, пожалуйста, мне так спокойнее. Вот спасибушки, так сказать, – он задумался. – Честно говоря, вы меня огорчили. Я-то хотел кое о чем вас попросить, раз уж вам терять нечего. А теперь неудобно. Извините, что развыступался и прикалывался. Думал, мы на одной волне. И вы тоже… рипнуться… Люди вашего поколения по-другому говорят. В общем, сами виноваты. Ну, и я хорош. Но я уже извинился, – выпалил он и уставился в пол.
– «Люди вашего поколения» звучит так же эпично, как «а я в твои годы». При этом беседуют обычно придурок и старый дурак. По крайней мере, таковыми они друг друга считают, – отмахнулся я от его извинений.
– Да ничего я не считаю. Просто вы поставили меня в тупик, так сказать. Честно, не знаю, как такому, как я, говорить с таким, как вы, – признался он и медленно поднял голову, стараясь не смотреть мне в глаза.
– С каким таким? – спросил я и сделал глоток кофе, который казалось продолжал кипеть в стакане.
– М-да… Человеком почти вдвое старше себя, – ответил он.
– По-вашему, я старый? – меня раздражала эта тема.
– Сейчас я в этом не уверен, – признался он.
– В таком случае без купюр можно, на «ты» нельзя. Вас устроит? – остановил его я.
– Вполне, вполне, – согласился он скорее сам с собой, залпом допил кофе и, извернувшись, опустил стакан на пол.
– Тогда слушаю вас внимательно. Договор есть договор, – подстегнул его я, устроился поудобнее, а сам продолжал пить маленькими глотками, обжигаясь и размышляя о том, как он выхлебал эту лаву.
– Видите ли, я люблю историю, – начал он издалека, глядя поверх меня и потирая колени. – Преподавать неинтересно. Из года в год одно и то же. Но и она, если заметить, – одно и то же, только однажды – бац! – и кончится. А мне стало интересно, когда это случится. Нет, не так… Мне захотелось это увидеть, – он посмотрел мне в глаза. – Что-то подсказывает, я не доживу. В общем, задумался, как дотянуть, так сказать, и начал бить по всем фронтам: соваться подопытным в разные эксперименты, на курсы инъекций, сеансы микрополяризации и, главное, – в биопринтинг. Знаете? Нет?
– Простите, не интересовался, – почесал за ухом я.
– Понятное дело, вам ни к чему… Через год мне напечатают печень, потом остальное. Все, кроме мозга и кожи, обновят. Но для кожи использую крема, а для мозга – продвинутые ноотропы и микротоки. Я на верном пути. И я не толстый! – встрепенулся он и провел рукой по животу, попутно пересчитав дрожащие от натяжения пуговицы. – Это результат тибетской гимнастики, она увеличивает объем легких и благотворно влияет на весь организм, так сказать. А побочный эффект – как у пения. Вы видели оперных певцов, они пузатые. Вот и я тоже. Это не жир, а резервуар для воздуха. А еще я, конечно, не курю, слежу за холестерином и пью чайный гриб. Вы пьете чайный гриб?
– Нет, – замотал головой я.
– Зря. Он продлевает жизнь на три года. Я подсчитал, что умру в двести пятьдесят два года – задолго до конца света. Удручающая перспектива.
– А я тут при чем? – спросил я, сдерживая смех.
– Вы мой последний шанс, – он сделал умоляющий жест.
– Од-на-ко…
Мои руки сами поставили стакан на шкатулку и заняли позицию на подлокотниках для старта. Начало нашего знакомства было интригующим, но продолжение утянуло в сюр. Шляпа резко упала в цене.
– Стойте! Вы же почти труп, ну что вам терять? – в отчаянии выкрикнул он, видя, что я собираюсь встать.
– Кто труп?
– Вы!
– Я?
– Да!
– Это уже слишком. Я попусту трачу на вас драгоценное время, – сказал я и протянул ему шляпу.
– Совсем забыл… Вы же торопитесь совершить креатив, – он внезапно сменил тон и отклонился назад, будто у его стула была невидимая удобная спинка. Я вернул шляпу на колени.
– Не могу сказать, что вы потрясли меня оригинальностью стремления, – резко ответил я.
– Я просто любопытный, – его губы медленно растянулись в улыбке и исчезли.
– Заметил, – я взял стаканчик со столика и допил кофе.
– Тогда заметьте, что ни разу не спросил вас, как вы собираетесь это сделать, – он стал крутиться на стуле вправо-влево.
– Пока не спросили, – грубо ответил я.
– И вам это не кажется странным?
– Кажется, – я протянул это слово, откинув голову назад и снова посмотрел на него.
– А мне кажется, вы вернетесь домой и у вас найдется одно маленькое и важное дельце. А завтра еще одно. Я никогда не видел самоубийц с таким благополучным лицом, – добавил он ехидно.
– И сколько самоубийц вы встречали? – парировал я.
Некоторым людям нравится искать ответы на потолке. Вот и он уставился в подвесные конструкции. Губы беззвучно бормотали, пальцы перебирали воображаемые четки. Я ждал. Внезапно его внешняя активность сошла на нет. Будто какая-то шальная мысль зацепила и утянула его в трясину воспоминаний. Я не ожидал такой реакции и снова зачем-то поборол желание уйти. После перепалки пауза тянулась, как товарняк на переезде. Прежде чем заговорить, он выдохнул, сглотнул и улыбнулся одним ртом, отчего мне стало жутко.
– Можно считать ни одного.
– Вот и поговорили, – я потряс пустой стаканчик и стал постукивать им по подлокотнику.
– Вот и поговорили. Да уж…
Сейчас он походил на сгорбившегося над лункой рыбака, который, сцепив руки в замок, то и дело подергивает ими от холода и что-то бормочет в темную воду проплывающим в глубине рыбам.
– В отличие от вас, – он замешкался, – я не способен на убийство.
– Я не убийца, – отозвался я.
– А кто, добрый эльф? – хмыкнул он. – Вы собираетесь убить себя – вы и есть убийца, – сказал он уверенно, и мне нечего было возразить. – А я – нет, и хоть к миру у меня большие претензии, я буду молчать. Мне бы увидеть, как он разлетится на запчасти, убедиться, что он никогда и никому не причинит вреда, и все. Неужели я много прошу?
Последний вопрос был риторическим, и я не стал отвечать. Чудак медленно восставал из печали и распрямлял плечи. Руки отряхнули друг друга и переплелись на животе.
– Как вас зовут? – спросил я, чтобы ускорить процесс его преображения.
– Семь тонн… Э-э-э, Семен Липатов, простите. А Семьтонн – это ник, в одно слово пишется. А вас?
– Платон, – ответил я.
– Тоже ник?
– Нет, имя.
Он предложил выпить за знакомство. Я открыл рот, чтобы запротестовать, но Семьтонн вскочил, побежал за прилавок. Нырнул, вынырнул, нырнул, вынырнул. Чем-то дзинькал, стучал, брякал. Обратно он бежал смешно, на цыпочках, неся на вытянутых руках два квадратных стакана. Осторожно, чтобы не расплескать.
– Виски со льдом, – прокомментировал он. – А много, чтобы сто раз не бегать. В качестве не сомневайтесь, я гурман, так сказать. Ну, за встречу! – он чокнулся с медлительностью космического челнока, совершающего стыковку, отхлебнул, наклонившись к руке, и только потом сел. – Небольшой тайм-аут – и продолжим. Я отдышусь.
– Не вопрос, – поддержал его я.
Виски и правда был хорош, но я не привык пить по утрам. Хотя сегодня можно было плюнуть на правила и позволить себе расслабиться. Жизнь напоследок решила посмеяться надо мной, высказать все, что думает, голосом случайного человека. Что ж, другой возможности у нее не будет, ей тоже сегодня умирать, а умирающих принято слушать не перебивая.
Не знаю, сколько пробыл у Семьтонна, полчаса или около того, но за это время нас никто не потревожил. Я поглядывал на дверь, к которой сидел вполоборота, как на раздражающий источник света и шума: то детский паровозик с песнями проедет, то зазывала выкрикнет тираду про лапшу удон по акции, то плач ребенка возвестит о том, что дракон не умеет позировать для фото с детьми. Ну и все в таком роде. На сей раз в проходе появилась угловатая фигура. Сначала ее трудно было рассмотреть против света. Определенно это было огромных размеров пальто, подобранное и подвязанное в нескольких местах, в котором ворочалась пожилая женщина. Левый рукав одежища раструбом доходил до колен и заканчивался прозрачным пакетом. Правый затерялся в тени, из всего этого модерна выглядывала тонкая шея с весьма подвижной головой в вязаной шапке на макушке. Я отвлекся, а спустя минуту нашел ее пританцовывающей у полки. Правая рука у нее была по-птичьи поджата к груди и дергалась у подбородка. Семьтонн заметил мое удивление, потом – ее, утиной походкой доковылявшую и остановившуюся под лампой. Она дотянулась подбородком до края прилавка и стала елозить по нему, осматриваясь. Неожиданно она выбросила вперед руку с пакетом, что-то схватила, зашуршала, сунула в пакет, повернулась и исподлобья покосилась на нас. На ее опухшем и страшном в свете зеленой лампы лице застыло детское выражение искренней радости. Им можно было бы умиляться, если бы открытый в широкой улыбке рот не обнажал редкие гнилые зубы, а из уголка рта на всклоченный меховой ворот не стекала слюна.
– Ай-яй! Вот де, Щемушка, – промямлила она, подергивая головой и крутя перед собой птичьей ручкой, торчащей из подвернутого рукава.
– Уходи скорей, не слюнявь стойку. Сколько раз говорить: вламываться не надо. Мне это не нравится. И воровать плохо. Плохо, Людочка, очень плохо. Я сам дам, – отчитал ее Семьтонн.
– А что она взяла? – поинтересовался я.
– Шоколадку, – спокойно ответил Семьтонн, будто это было вполне естественно, и пошел выпроваживать незваную гостью. Он что-то шепнул ей на ухо, развернул и повел к двери. Она послушно засеменила, но тут же вырвалась и вперила в меня свои воспаленные глазки.
– Ай-яй! Бедный, пропадешь! – крикнула она и оттопырила указательный пальчик на птичьей ручке, попыталась поднять ее и показать им куда-то наверх, но та завертелась, и пальчик запутался в волосах. Прядь намоталась, ручка потянула ее вниз, и Людочка ойкнула. Кое-как высвободившись, она натянула на лоб шапку, съехавшую на затылок, и продолжила идти, переминаясь с ноги на ногу и озираясь по сторонам. – Нишего от него не шкроешь. И тебе беда, и ему беда, да-да, да-да.
– Чего раскаркалась, хорошо же все, – Семьтонн бережно подталкивал ее к выходу. По пути он взял что-то с прилавка. – Что на тебя нашло, добрых людей оговариваешь, разве так можно? На, держи еще одну, она с изюмом, как ты любишь. И запомни, заходить ко мне можно, когда я один. Поняла?
– Поняла, и за кого вторая кофета, поняла. Имя шкажи, а то как молиться за него без имени-то? – вцепившись в его рукав, спросила Людочка.
– Платон он, – ответил Семьтонн и снял ее руку со своего плеча, как мертвого паука.
– Платон, Платон, Платон, – уходила она, бормоча мое имя.
Семьтонн закрыл стеклянную дверь, налил себе выпить и усеялся с видом, который с натяжкой можно было назвать виноватым.
– Подкармливаете сладкоежку? – поинтересовался я.
– Есть такое, – буркнул он, – ее весь центр кормит, она наш талисман – к деньгам приходит.
– А на самом деле? – спросил я. Это уже походило на игру.
Мой вопрос вызвал у него мимолетную улыбку. Так улыбаются те, кому нет смысла скрывать очевидное.
– Ну да, и здесь подстраховался, – он расстегнул ворот рубашки, вытащил серебряную цепочку, по которой дружно съехали вбок два крестика, звезда Давида, полумесяц со звездой, и убрал ее обратно. – Кольца тоже не простые, они с их молитвами, а печатка, – Семьтонн дыхнул на нее и протер о брюки, – с руной долголетия.
– Серьезно? – оживился я.
– Вполне. Не то чтобы я во все это верил, но в моей ситуации надо использовать любые ресурсы. Да, в чем-то я настойчив и целеустремлен, но не настолько, чтобы утешиться одной надеждой. Вы понимаете, о чем я? Просто боюсь оскорбить вас, согласно нынешним законам.
– Понимаю, – ответил я, – не бойтесь, в собеседники вам досталась абсолютно неоскорбляемая по этой части душа.
– Вера – дело тонкое, – продолжил он, – оно требует самоотдачи, а я человек вспыльчивый, могу и наорать. Подозреваю, богу не нравится, когда на него кричат, поэтому я доверился профессионалу. Людочка – божий человек. Она лопочет с ним на своем языке, а главное – она в него верит и он для нее существует безусловно. Через нее моя просьба скорее будет услышана, чем… ну вы понимаете…
– Через церковь дольше, вы хотите сказать, – уловил я его намек.
– Мне бы не хотелось об этом говорить: зыбко это, чувственно, но представьте, что, наоборот, все реально и материально, а наши чувства и желания предметны, и вам станет ясно, какая там толчея и опт. Церковь – что главпочтамт без обратной связи. И потом, поди угадай, какая из них на него работает, а в том, что Людочка к нему по своей козьей тропке шастает, я уверен. Года три назад с ней разговорился. Она в этом кресле, – он показал на соседнее, – сидела, обо мне плакала, а потом ласково так сказала: «Ничего, Семушка, я буду за тебя в церковь ходить, грехи замаливать. Жизнь вечная всем на небесах обещана, но, может, Он сделает для тебя исключение на земле, раз у тебя обстоятельства», – он замолчал, отхлебнул виски, поморщился и сказал: – Она не такая чокнутая, как считают. Мало говорит, но в точку.
– Немного отчаяния, мистического мышления – и безнадежный хроник в ваших глазах превращается в талисман. Радует одно – это дает больным людям общение и сытость.
– То есть вы не верите? – не унимался Семьтонн.
– Не верю во что? – я закинул ногу на ногу и подпер голову рукой.
– Для начала в бога, – спросил он прямо.
– Допустим.
– И в Людочку не верите? – он подался вперед, в его голосе прозвучали нотки возмущения.
– Семьтонн, я верю, что вы в нее верите и что эта вера поддерживает вас. Для этого мне не обязательно становится адептом, не так ли?
По его реакции я понял, что ответ его устроил. Он расслабился, задумался и вдруг удивился собственной мысли.
– Тем лучше. Если для вас жизнь закончится ничем, то и в самом деле вам нечего терять и вы можете мне помочь с одним делом, – проговорил он нерешительно, почти по слогам.
– Насколько небольшим? Помнится, я посвятил вас в свои планы на сегодня, – заметил я.
– С ними придется повременить, – сказал он более твердо и, заметив мое недоумение, протестующе замахал руками, расплескивая остатки виски по полу. – Прошу, дослушайте до конца, и вы поймете, как это важно. Я суюсь везде со своей идеей фикс, и в этом смысле я на грани помешательства, потому что стеснен во всем, и во времени в первую очередь. Но это моя жизнь, и я имею право. Имею право хотеть жить, сколько мне вздумается, как и вы – умереть хоть здесь и сейчас. На днях мне предложили действительно стоящую вещь… Что не так? Да не смотрите вы на меня как на дурака!
– Семьтонн, считай я вас дураком, был бы уже дома, а я все еще здесь и убегать не собираюсь. К тому же я ценю вашу прямолинейность, – я устал сидеть и попытался умоститься поудобнее, насколько позволяло деревянное кресло, привычным движением размял шею и вытянул ноги. – Продолжайте.
– Вы уверены? – с сомнением произнес он.
– Да, – кивнул я, давая понять, что заинтригован.
– Мне предложили год лонг-флоатинга – сна в невесомости. Это, так сказать, альтернатива крионике, когда ты здоров и хочешь поставить жизнь на перемотку. Предложение эксклюзивное, я его как бы заслужил. Я же блог веду, – запинаясь, начал объяснять Семьтонн. – «Спорим, я тебя переживу» называется. Ник – Семьтонн. Думал, вы слышали. В деле долголетия я вроде гуру, – он смутился, проверил карманы пиджака, достал из внутреннего буклет и протянул его мне.
Света от шляпных софитов едва хватало, чтобы разобрать шрифт подзаголовков, но иллюстрации говорили сами за себя. Я слышал, что флоатинг – модная процедура расслабления и депривации чувств, которую проводят в теплой соленой воде, имитирующей невесомость. Но год… не многовато ли? Я быстро пролистал буклет и вернул владельцу.
– Ну как? Нравится? – с надеждой спросил Семьтонн.
– Неплохая идея, но дрыхнуть год – кто на это решится? – спросил я.
– Ради молодости и здоровья? Да кто угодно, – он заметил мое скептическое выражение. – Кто угодно из тех, так сказать, у кого и то и другое стремится к нулю. Суть эксперимента заключается в том, чтобы организм как бы спал. Время для него пойдет вспять, клетки начнут омолаживаться, двадцать лет как рукой снимет. Так мне объяснили. Там будет специальное питание и процедуры, уход и тренировки мышц. В буклете все есть, но вы не прочитали. Я заметил. Представитель компании, набирающий группу, уверяет, что эту методику они разрабатывают для дальних космических перелетов, чтобы астронавты не старели.
– Простите, но кто будет тащить в космос тонны соленой воды, десятки ванн и простыней, когда невесомость существует там повсеместно? – съязвил я.
– Ну не знаю, может, суть в методике, а не в ваннах, как вы выражаетесь? К тому же я думаю, что их цель – бессмертие, а не полеты на Марс, – понизив голос, произнес Семьтонн.
– Так идите и дрейфуйте, кто вам мешает? – спросил я.
– Эксперимент серьезный. Прежде чем предложить методику правительству, надо доказать ее эффективность на практике, так сказать. Это частная научная лаборатория. Они занимаются вопросом долголетия давно и серьезно. У них солидные спонсоры. По факту участники эксперимента оплачивают только медицинский уход. Так мне сказали.
– И сколько они просят? – поинтересовался я.
– Девятьсот девяносто девять тысяч рублей, – робко ответил он.
– Сомнительная сумма.
– Чуть дороже, чем пышные похороны, простите за сравнение. А у меня за душой ни гроша.
– С чего вы взяли, что у меня он есть? – засмеялся я.
– Я продаю дорогие шляпы и могу отличить ротозея от покупателя. К тому же я знаю, сколько стоит ваша футболка, – отметил Семьтонн.
– Допустим. Но я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня, – сказал я и представил себя его спонсором. В деталях представил. Как перевожу ему на карту лям, провожаю на поезд, а через год встречаю с поезда мальчика лет десяти и узнаю его по особой примете – шапочке из фольги.
– Мне нужно, чтобы вы согласились на эксперимент, – он заерзал на стуле, – я хочу вас использовать, – ответил Семьтонн и впервые за весь разговор посмотрел на меня в упор.
– Я похвалил вас за прямолинейность, а теперь придется упрекнуть за наглость.
– Меня заверили, если я приведу клиента, то через год меня возьмут бесплатно, и там уже будет дольше и круче. А это мой шанс. Понимаете? – в его черных глазах разгоралось пламя надежды, он умолял меня, казалось, еще немного – и встанет на колени.
– И у вас нет ни тени сомнения в том, что я откажусь? – спросил я.
– А вы откажетесь? – его взгляд был невыносим.
Я встал, чтобы размять ноги, и прохаживался вдоль полок, сунув руки в карманы, избегая переступать черту на полу у зеркала, за которой врубался свет.
– Подумайте, – заговорил Семьтонн, – возможно, вам стоит полежать годик и хорошенько отдохнуть. Остальное успеется. Ну, как вариант. Кажется, вы слишком серьезный и никогда не совершали чудачеств, поступков приятных и бессмысленных, за которые ваша совесть обглодала бы вам кости. Неужели вы хотите хлопнуть крышкой, так и не побаловав себя напоследок?


